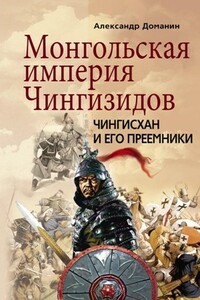Крестовые походы. Под сенью креста | страница 41
Стоит, вероятно, отметить и обещание папы римского, что церковь возьмет под свою защиту семьи уходящих в поход паломников и все их владения и имущество. В ту эпоху повальных грабежей и междоусобиц такое обещание дорогого стоило. Крестоносец, отправляющийся в далекий и опасный путь, мог быть, по крайней мере, уверен в том, что, вернувшись, он не найдет на месте родного дома пепелище, а семью умирающей от голода. Кстати, довольно малоизвестен тот факт, что церковь, беря под защиту семьи крестоносцев, обязалась и следить за тем, чтобы община не дала им умереть с голоду и снабжала самым необходимым. Причем это обязательство было действительным до возвращения крестоносца домой, а в случае его смерти во время похода – до совершеннолетия его детей. Для сотен тысяч крестьян, а порой и для неимущих рыцарей это часто означало единственную возможность спасти свою семью от голодной смерти, и, возможно, еще и поэтому крестьянская и рыцарская беднота проявляла самое большое рвение в принятии крестоносных обетов.
В общем, папский призыв к крестовому походу оказался тем нечастым случаем, когда произнесенные слова вступили в резонанс с господствующим настроением всего общества. Урбан II нашел струну, удивительно созвучную с духовным настроем самых разных социальных слоев, и слова его прозвучали на редкость своевременно. Вся Европа поднялась на защиту Святой Земли. И первой была деревенская беднота.
Глава 5
Крестовый поход бедноты
Во всей двухвековой эпопее крестовых походов в Святую Землю трудно найти событие более масштабное, волнующее и, до некоторой степени, даже иррациональное, чем то, которое в более поздние времена получило название «крестовый поход бедноты». Уникален, в первую очередь, сам масштаб этого явления: по подсчетам современных историков, число принявших крест, вероятно, превосходило пятьсот тысяч человек, а возможно, и приближалось к миллиону[24]. Для средневековой Европы, где город в пять тысяч жителей считался крупным, а королевские и императорские армии редко превышали десять-пятнадцать тысяч человек, эти цифры кажутся просто невероятными. Но мы уже знаем, что стало причиной этого небывалого взрыва народного воодушевления. Теперь посмотрим, как это происходило.
В своей клермонской речи папа Урбан II, помимо всего прочего, назначил и дату выступления крестоносного воинства в поход – 15 августа 1096 года. Устанавливая такую довольно отдаленную дату, римский первосвященник учитывал все многочисленные трудности по организации этой крупнейшей общеевропейской акции. Значительное время было необходимо на сбор рыцарских ополчений, на подготовку вооружения и транспорта. Немаловажно и то, что день выступления приходился на время после сбора урожая, что позволяло обеспечить гигантское многонациональное войско крестоносцев съестными припасами на его пути к Константинополю, где был назначен общий сбор. Но эффект клермонской речи оказался гораздо более значительным, чем мог предполагать сам папа, и привел к таким последствиям, к которым церковь вряд ли стремилась.