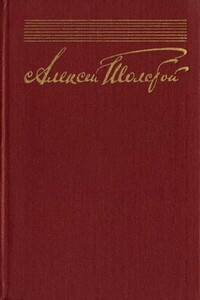Собрание сочинений в десяти томах. Том 7 | страница 2
— Давеча, лопни мои глаза, вот напужалась… У порога — сор, а на сору — веник… Я гляжу с печки, — с нами крестная сила! Из-под веника — лохматый, с кошачьими усами…
— Ой, ой, ой, — боялись под тулупом маленькие.
2
Чуть проторенная дорога вела лесом. Вековые сосны закрывали небо. Бурелом, чащоба — тяжелые места. Землею этой Василий, сын Волков, в позапрошлом году был поверстан в отвод от отца, московского служилого дворянина. Поместный приказ поверстал Василия четырьмястами пятьюдесятью десятинами, и при них крестьян приписано тридцать семь душ с семьями.
Василий поставил усадьбу, да протратился, половину земли пришлось заложить в монастыре. Монахи дали денег под большой рост — двадцать копеечек с рубля. А надо было по верстке быть на государевой службе на коне добром, в панцире, с саблею, с пищалью и вести с собой ратников, троих мужиков, на конях же, в тигелеях, в саблях, в саадаках… Едва-едва на монастырские деньги поднял он такое вооружение. А жить самому? А дворню прокормить? А рост плати монахам?
Царская казна пощады не знает. Что ни год — новый наказ, новые деньги — кормовые, дорожные, дани и оброки. Себе много ли перепадет? И все спрашивают с помещика — почему ленив выколачивать оброк. А с мужика больше одной шкуры не сдерешь. Истощало государство при покойном царе Алексее Михайловиче от войн, от смут и бунтов. Как погулял по земле вор анафема Стенька Разин, — крестьяне забыли бога. Чуть прижмешь покрепче, — скалят зубы по-волчьи. От тягот бегут на Дон, — откуда их ни грамотой, ни саблей не добыть.
Конь плелся дорожной рысцой, весь покрылся инеем. Ветви задевали дугу, сыпали снежной пылью. Прильнув к стволам, на проезжего глядели пушистохвостые белки, — гибель в лесах была этой белки. Иван Артемич лежал в санях и думал, — мужику одно только и оставалось: думать…
«Ну, ладно… Того подай, этого подай… Тому заплати, этому заплати… Но — прорва, — эдакое государство! — разве ее напитаешь? От работы не бегаем, терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну, ладно… Ты заставь, бери, что тебе надо, но не озорничай… А это, ребята, две шкуры драть — озорство. Государевых людей ныне развелось — плюнь, и там дьяк, али подьячий, али целовальник сидит, пишет… А мужик один… Ох, ребята, лучше я убегу, зверь меня в лесу заломает, смерть скорее, чем это озорство… Так вы долго на нас не прокормитесь…»
Ивашка Бровкин думал, может быть, так, а может, и не так. Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на коленках, Цыган (по прозвищу), волковский же крестьянин, черный, с проседью, мужик. Лет пятнадцать он был в бегах, шатался меж двор. Но вышел указ: вернуть помещикам всех беглых без срока давности. Цыгана взяли под Воронежем, где он крестьянствовал, и вернули Волкову-старшему. Он опять было навострил лапти, — поймали, и ведено было Цыгана бить кнутом без пощады и держать в тюрьме, — на усадьбе же у Волкова, — а как кожа подживет, вынув, в другой ряд бить его кнутом же без пощады и опять кинуть в тюрьму, чтобы ему, плуту, вору, впредь бегать было неповадно. Цыган только тем и выручился, что его отписали на Васильеву дачу.