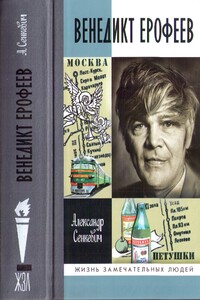Будда | страница 41
Упанишады рассматривают существование Брахмана в трех формах — в непроявленной, неопределенной форме, не имеющего качеств — ниргуна, в проявленной форме, то есть обладающего качествами — сагуна и в форме абсолютного сознания — атман.
Мокша (санскр. — освобождение), избавление от пребывания в сансаре — одна из четырех целей человеческой жизни, самая важная. Она представляет состояние нерождаемости и неумирания, освобождение от цепи бесконечных рождений и смертей. Мокша намного значимее материального благополучия — артхи и всяких чувственных радостей — камы. Она во многих случаях соотносится с неукоснительным исполнением морально-религиозного закона — дхармы. Смысл освобождения — навечно уйти из-под власти кармы.
Мокша возможна при условии понимания, что есть Брахман, Абсолют и предполагает слияние с Ним Атмана.
Аскеза и медитация (то есть созерцание) приближают мистическое озарение. Весь потенциал ума индуса идет на устранение преград к этой цели, создаваемых природой и социальным окружением.
Вот что писал по этому поводу Владимир Александрович Кожевников (1852–1917), известный дореволюционный историк культуры и публицист: «Сумма и сущность, можно сказать, всей индусской философии от ее начала и конца есть скорбь метемпсихоза и способ избавления от него. Этого факта всякий изучающий индусскую философию не должен ни на одну минуту терять из вида; иначе он собьется с пути среди кажущихся непроходимыми джунглей отвлеченного мышления»[59].
Человеческое обличье считается (особенно ранними буддистами) необходимой предпосылкой для перерождения живых существ на пути окончательного освобождения из круговорота рождений, смертей и новых рождений — из сансары. Зарождение учения о сансаре ученые относят к VII–V векам до н. э., то есть ко времени, почти примыкающему к появлению буддийского учения.
Понятием Брахман в Ригведе обозначается магическая сила священного слова. Именно она заполняет собой пространство и время. Она же «определяет все формы и явления и одновременно находится вне их, и весь мир — включая и богов — происходит из нее»[60].
Обращусь к Николаю Гумилеву. К его стихотворению «Слово». Должен признаться, я не встречал ни у кого из русских поэтов такого лаконичного и отчетливого понимания мироощущения человека, живущего в эпоху Вед и чуть-чуть позднее. Впрочем, это «чуть-чуть» может измеряться многими столетиями. Судите сами: