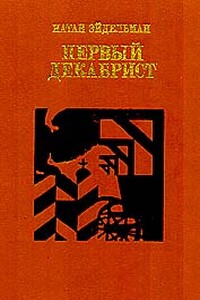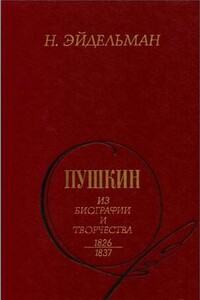Из потаенной истории России XVIII–XIX веков | страница 22
На склоне лет, подавленный горем, утратами близких, крушением некогда дружной и счастливой семьи, всеми забытый, он, как бы исповедуясь перед потомством, заново переживает в предсмертных записках блестящую молодость, взлет своей карьеры, расцвет литературной деятельности и по ходу воспоминаний восстанавливает жизненный путь повешенного на кронверке Петропавловской крепости сына — такой поначалу мыслилась Эйдельману композиционная канва биографии Сергея Муравьева-Апостола. Этот далеко не ординарный по тем временам и, кстати, чрезвычайно сложный в литературном воплощении замысел уже сам по себе сообщил бы будущей книге трагический регистр и драматическое напряжение рассказа о духовном мире ее героев. (К сожалению, осуществить его не удалось: редактор, которого Эйдельман посвятил в свой план, не помню уже, по какой причине, решительно не поддержал идеи стилизованной под мемуарные записки биографии декабриста, и она была написана в виде традиционного авторского повествования, в каком и известна ныне миллионам читателей.)
При всей заманчивости такого замысла мне показалось, что он не очень органичен для творческих устремлений Эйдельмана, приверженного к строгой документальности и чуравшегося слишком «вольного» вымысла. Ведь о том, что старик Муравьев-Апостол, о последних десятилетиях жизни которого мы вообще мало что знаем, составлял свои записки, в документах эпохи какие-либо сведения дотоле отсутствовали — и в его немногочисленных жизнеописаниях, и в откликах на его кончину, и в воспоминаниях и переписке современников, и в бумагах его наполовину утраченного архива. Об этом не без скепсиса и иронии я и напомнил Эйдельману, заметив, что, взявшись за «сочинение» мемуаров Ивана Матвеевича, которые тот никогда, наверное, не писал, он отступил бы от собственных принципов, от своей, как он говорил, «привычки к документу» и оказался бы в плену «голого», ничем не мотивированного домысла. На что он со спонтанно вспыхнувшей откуда-то изнутри убежденностью и с присущей ему экспрессией ответил: «Человек такой культуры, такой среды должен был писать, не мог не писать!»
Года два спустя, уже после выхода в свет первого издания «Апостола Сергея», разыскивая в Рукописном отделе Пушкинского Дома материалы по совсем другим сюжетам, в собрании бумаг Л. Б. Модзалевского я совершенно неожиданно наткнулся на копию отрывка воспоминаний А. Я. Булгакова — в молодости дипломата, позднее московского почт-директора, литератора и мемуариста, бывшего в знакомстве и переписке чуть ли не со всей культурной Россией первой половины XIX в. При первом же взгляде на архивное название рукописи меня охватил сильнейший трепет: «Иван Матвеевич Муравьев-Апостол и его биография „Моя исповедь“ (Из воспоминаний старого дипломата)». Повествуя о своих отношениях с ним (они познакомились за 50 лет до того, еще в екатерининское царствование), Булгаков рассказывал здесь о пятинедельном пребывании Ивана Матвеевича в 1846 г. в Москве, об их совместных прогулках и взаимных визитах, о том, как Иван Матвеевич охотно делился устными воспоминаниями о перипетиях своей трагической судьбы, государственном поприще, дипломатической службе в Испании. Здесь же Булгаков поведал о том, как по его настоянию Муравьев-Апостол стал писать по-французски автобиографические записки и даже регулярно пересылал ему составленное за день. И что всего любопытнее, из этого рассказа следовало, что по прошествии нескольких лет после смерти Ивана Матвеевича Булгаков собирался напечатать в России муравьевские записки, а найденный мной отрывок из его собственных воспоминаний представляет собой не что иное, как предисловие к их публикации. «Таким образом, — свидетельствовал Булгаков, — составилась незаметно предлагаемая здесь читателям Автобиография, которую Муравьев назвал „Своею Исповедью“. Всякий любознательный Русский прочтет, без сомнения, с удовольствием рассказы любезного и умного человека, переданные бойким и замечательно отчетливым пером»