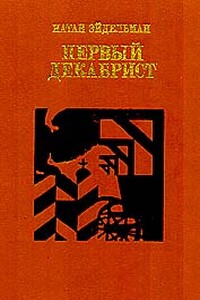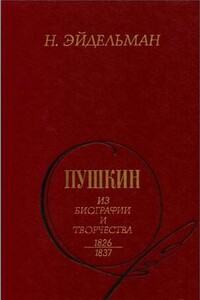Из потаенной истории России XVIII–XIX веков | страница 19
Вот через такие только им увиденные детали, нащупывая неразрывность связи с людьми ушедших эпох, он и самого себя ощущал частицей общего потока истории. Этот, я бы сказал, оживотворенный историзм был для Эйдельмана не только методом познания прошлого и повествования о нем, но и свойством личного мирочувствования, способом собственной ориентации в современном мире. Ощущение себя участником продолжающейся в современности истории во многом объясняет, между прочим, и глубинные основания публицистичности творчества Эйдельмана, и его брутального вторжения в историческую публицистику уже в последние, «перестроечные» годы.
Это помогало ему как историку и писателю само прошлое постигать, говоря пушкинскими словами, «домашним образом» — «вживаться» в эпоху, «изнутри» проникаться сознанием и настроениями реальных исторических персонажей, зная о них все, что только можно было знать, и предугадывая их поступки в разных жизненных ситуациях. Казалось, он чувствовал себя как бы «накоротке» с ними, их современником и добрым приятелем, никогда, впрочем, не переходя грани «амикошонского», фамильярного обхождения с историческими деятелями прошлого.
В этом отношении Эйдельман, видимо, имел нечто общее с Ю. Н. Тыняновым — ученым и писателем, который, по воспоминаниям знавших его, был в высокой мере наделен редчайшей способностью перевоплощаться в реальные исторические фигуры XIX в., составлявшие предмет его научных и литературных интересов, с истинно художнической, почти гениальной проницательностью угадывать и воспроизводить устно и на страницах своих книг их духовный и даже физический облик. (Вообще следовало бы поставить вопрос более широко: отражение в творческой практике Эйдельмана наследия Тынянова; Эйдельман и тыняновские традиции в нашей культуре — это, несомненно, самостоятельная тема, которая заслуживала бы специального рассмотрения>[30].)
Очень существенны были тут и сверхъестественная память Эйдельмана, и его доскональная осведомленность в культурно-бытовых реалиях эпохи, но более всего — его особое, чувственное, артистическое восприятие прошлого или, как я бы обозначил это, дар исторической контактности, который нельзя воспитать, выработать долгими годами обучения, ибо это именно дар врожденный, данный свыше. Но в нем выявлялись и необыкновенные свойства самой его личности. Его заразительная общительность. Его душевная щедрость. Его редкое умение располагать к себе окружающих и дружить одновременно с сотнями самых разных людей (рассердить Натана или поссориться с ним было делом практически невозможным: уже одного его мягкого, бархатного, переливающегося интонациями баритона в телефонной трубке, произносившего, как ни в чем не бывало, какие-то приветливые слова, было достаточно, чтобы предмет ссоры вмиг улетучился). Его, наконец, жизнерадостное, полнокровное, моцартианское, если позволительно так выразиться, ощущение мира.