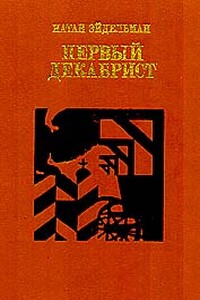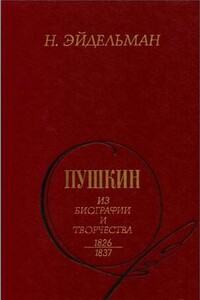Из потаенной истории России XVIII–XIX веков | страница 17
С полным основанием Эйдельмана можно было бы назвать блюстителем и мастером живого исторического предания.
Его генеалогию в этом отношении следует искать в опыте таких выдающихся историков и пушкинистов прошлого — первой трети нынешнего века, как, например, П. И. Бартенев, М. И. Семевский или П. Е. Щеголев. Погруженные в стихию устного предания — этого «фольклора» образованных слоев общества — его неутомимые собиратели и пропагандисты, они сами по себе были для Эйдельмана фигурами историческими, по-своему не менее значимыми, нежели традиционно-признанные герои его книг.
Наверное, поэтому он так дорожил дружбой и со своими старшими современниками и учителями, незаурядными учеными, яркими, независимыми в своих взглядах и общественном поведении личностями — такими, например, как историки и литературоведы Ю. Г. Оксман, П. А. Зайончковский, С. А. Рейсер, С. Я. Боровой или выдающийся знаток русской культуры и быта, коренной петербуржец, писатель В. М. Глинка. Эйдельман бесконечно ценил этих людей еще и потому, что видел в их богатейшем жизненном опыте и — главное — в их прелюбопытнейших рассказах о «неписаных» страницах истории двух последних столетий олицетворение связи с ушедшими поколениями российской интеллигенции, с ее культурно-этическими традициями — словом, видел в них воплощенное предание о прошлом.
«История одного — история всех. Но зато все связано сильнее, чем мы обычно думаем», — сказано в «Лунине»>[25]. «Сцепление всего со всем», — часто повторял он как своего рода девиз эту гениальную по точности и простоте формулу Л. Н. Толстого. Вскрывать в пластах исторического материала эту зыбкую, почти не заметную связь было для Эйдельмана самым увлекательным и почтенным занятием. Он, например, искренне сожалел, что не имел ни одного знакомого, который бы родился в XVIII в., а уж о том, сколько и каких у него было знакомых, появившихся на свет в 40–60-х годах прошлого века, рассказывал охотно и повсюду. С раннего детства он запомнил почти столетнего ветерана русско-турецкой и чуть ли не Крымской войн, который вспоминал, как при выпуске из юнкерского училища ему пожимал руку сам Николай I, и это «рукопожатие через столетие» было для Эйдельмана ценностью наивысшего порядка. «Я знаю нескольких пожилых людей, которые беседовали со старшим сыном Пушкина, Александром Александровичем. Последний хоть и смутно, но помнил Александра Сергеевича: всего два звена до Пушкина», — писал он не без горделивого чувства