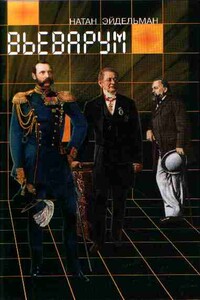Из потаенной истории России XVIII–XIX веков | страница 10
В том же, что касается исторической науки в нашей стране, есть достаточно оснований считать, что его творческая практика сыграла здесь вообще особую роль, предвосхитив в известной мере то расширение горизонтов исторической мысли, то обновление проблематики исследований, наконец, ту направленность массовых исторических интересов, которые лишь в последние годы получили «права гражданства».
В подтверждение сказанного сошлюсь на один, мне кажется, очень выразительный пример. Он связан с преломлением в творчестве Эйдельмана еще в те давние годы чрезвычайно модной сейчас идеи альтернативности в истории.
Мысль о том, что в ней наличествует не какой-то один, заранее предопределенный путь развития, а по меньшей мере несколько различных по потенции осуществимости путей, что неизбежны и неотвратимы только те события, которые уже состоялись, все же остальное открыто осознанному историческому действию, — мысль эта признана ныне одним из краеугольных положений современной методологии исторического и — шире — социального познания. Разговоры об альтернативности ведутся не только в ученой среде, но и в публицистике, массовых аудиториях, за всякого рода «круглыми столами» т. д. Но до середины 80-х годов попытки всерьез затронуть эту проблему решительно пресекались. Историкам жестко предписывалось заниматься только тем, что совершилось, — в этом усматривался как бы «символ веры» материалистического понимания истории, но, разумеется, в сугубо механистической трактовке. Его адепты под флером рассуждений о примате «исторической необходимости» усердно проповедовали, что сослагательное наклонение имманентно противопоказано исторической науке.
Все это, если называть вещи своими именами, нельзя оценить иначе, как реанимацией в лоне марксизма старых как мир фаталистических, провиденциальных взглядов на историю, глубоко религиозных по своему существу и происхождению.
Для Эйдельмана такого рода постулаты были неприемлемы и в общетеоретическом и профессиональном плане.
Вот что писал он в конце 1980-х годов в одной из последних своих книг: «Странное, с виду бесполезное, а на самом деле весьма и весьма важное занятие — разгадывать, разыгрывать несбывшиеся исторические варианты.
Много лет нас учили, что историку негоже рассуждать, „что было бы, если бы…“. Подозреваем, что наставники таким способом прежде всего стремились нас убедить, что „все действительное разумно“, а прочее „от лукавого“: опасные сомнения в единственности того, что произошло. Скажем, коллективизация, тирания, террор»