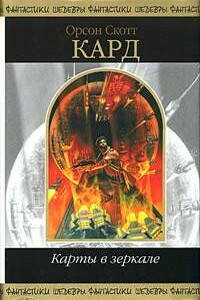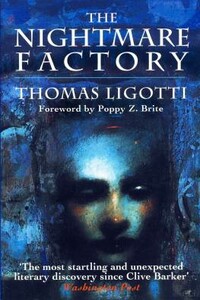Грифоны охраняют лиру | страница 5
В этой схеме места для отца предусмотрено не было, но просто отмахнуться от факта его — былого или действительного — существования тоже было нельзя. На школьной молитве, некогда отмененной демократически настроенным гимназическим начальством, но снова ставшей обязательной примерно с середины двадцатых, регулярно повторяемое «отец» или «отче» откликалось в Никодимовой душе чувством какой-то собственной тайны: собственно, иконографическая многоликость Бога как бы провоцировала его на эти слегка кощунственные мысленные упражнения: он представлял Его не тучным стариком, по-кучерски восседающим среди облаков, и не изможденным страдальцем, а кем-то почти партикулярной внешности, средних лет и немного похожим внешне на самого Никодима. Со временем он, сам того не сознавая, поместил образ отца среди домашних божеств — и носил в душе его смутноватый абрис среди прочих покровителей — на манер древнего римлянина со своими пенатами. Позже, прочитав в отрочестве «Таинственный остров», он с мягкой теплотой узнал отца в капитане Немо: волшебном покровителе, приходившем на помощь в минуту смертельной опасности. Тринадцатилетнему Никодиму не терпелось проверить открытие: малярии взять было неоткуда, но кстати подвернулся коклюш: начавшись с обычной перхоты, он быстро перерос в гулкий, лающий мучительный кашель, терзавший щуплую Никодимову грудную клетку, особенно по ночам. В полуночном бреду ему казалось, что в груди у него завелась какая-то птица, бьющая крыльями и рвущаяся прочь, пробивающая себе дорогу. Собственно, он представлял ее очень четко: с грязно-белыми крыльями, розоватым гребешком (тут явно примешивались впечатления от мясных рядов на рынке, где курицы раскладывались, как в наглядном пособии для урока естествознания, так сказать, ab ovo), но с хищным загнутым клювом и грозными грязно-желтыми чешуйчатыми лапами. Вертясь в кровати под плотным одеялом, он воображал поединок, в котором воображаемый отец с иконописным ликом и соответствующим образу оружием, чуть ли не копьем, вступит в единоборство с терзающим его изнутри монстром; горячка нивелировала несообразицу с размерами — либо родитель должен был оказаться миниатюрным, либо пернатый узник собирался быть человеческих габаритов. Особенно обидно было, что сам миг сражения он бестолково проспал, хотя и клялся себе не упустить его, — и проснулся вдруг одним прекрасным утром от беглого прикосновения сухих губ матери к своему, за ночь выздоровевшему, лбу. Была сильная метель, за окном чуть наискось летели крупные снежинки, и на месте не дававшего спать чудовища чувствовалась теплая пустота, а вместе с ней растворяющееся ощущение сбывшегося чуда, слишком собственного, чтобы о нем можно было кому-нибудь рассказать.