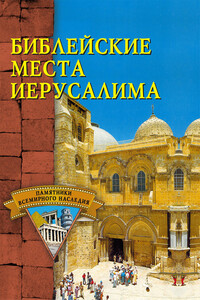Кумар долбящий и созависимость. Трезвение и литература | страница 49
По прихоти судьбы мне довелось оказаться в дни смерти и похорон Бродского в Нью-Йорке и тоже откликнуться на печальное событие. Однако я намеренно избегла библейских ассоциаций: они показались мне лежащими на поверхности да и слишком нарочитыми по свежим следам. Стихотворение Тюрина в конечном счете тоже едва ли не исчерпывает аллюзии заглавием. И интересно оно нам прежде всего тем, что в нем намечается путь богопознания, проделанный не только самим Бродским, необычайно важным для Тюрина автором, влияние которого он начал решительно преодолевать лишь в последний год жизни, но и русской поэзией ХХ века — особенно в лице ее представителей еврейского происхождения. Этот путь можно обозначить как путь культурного агностика, каковым был не только сам Бродский, но и другой нобелевский лауреат — Борис Пастернак, хотя следует признать, что стихотворение Бродского о бегстве в Египет, да и весь Рождественский цикл представляются мне более «теплокровными», нежели Евангельские пересказы Юрия Живаго. Но это не меняет общего вектора. В трагическом смысле — а бестрагичность является тоже одной из ярчайших примет культурного агностицизма — активное, «иаковское», богоборческое начало представляется мне несравнимо более продуктивным, чем агностическое «ни холоден ни горяч». Молодость и ученичество, боль утраты Учителя толкают Илью на первый — бестрагичный — путь. Но поэтический гений позволяет ему избежать роковой ошибки самым естественным для поэта способом — сочетая несочетаемое:
Нью-йоркский асфальт зернистую гладь
Освежил шелестом звездных век.
Если не грех человечеству спать,
Значит, бодрствовать грех.
Значит, пускай священный старик
Посылает с небес карателей рать:
Ибо достоин костра еретик!
Аминь. Подпись. Печать.
(Сон Иосифа)
Обратим внимание на то, что имя Божие поначалу снова табуировано — «священный старик», затем подменено нейтральным «Всевышний», затем, по-прежнему не называемое, сконтаминировано из атрибутов Бога-Отца (мотив Синая и скрижалей) и Бога-Сына («люби их до боли потом»). Причем, Бог-Любовь внешне противоречит гневному Богу, мечущему «угли», что, кстати, является прямой аллюзией на Книгу Исход: «Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась… (Исх.19:18)». Интонация приведенных отрывков явно восходит к записному богоборцу русской поэзии минувшего века — Владимиру Маяковскому, и только через него, опосредованно — к Бродскому, чья поэтическая генеалогия несомненно ведется от Маяковского. Юный Илья Тюрин защищается иронией, заимствованной у Бродского, от подростковых инвектив, которыми так обилен Маяковский, но за номинативными заменами прячется такая страсть и такое духовное напряжение, что ирония уже не помогает их завуалировать.