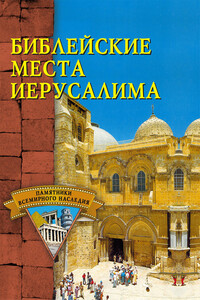Кумар долбящий и созависимость. Трезвение и литература | страница 42
Но, ты знаешь: кто ближнего любит
Больше собственной славы своей,
Тот и славу сознательно губит,
Если жертва спасает людей.
Губил себя Денис мастерски. «До полной гибели всерьез» ему всегда оставался ровно шаг. И если он его не делал, то исключительно силою любви. Жажда самоистребления, «проклятости» в итоге победила «желание славы». Когда стихи сами по себе уже не могли спасти никого, Денис написал едва ли не лучшее стихотворение 90-х — «Россия», где предсказал все на 20 — а теперь понятно, что и более, лет вперед:
Подумаем лучше о наших делах:
налево — Маммона, направо Аллах.
Нас кличут почившими в бозе,
и девки хохочут в обозе.
Но к себе, к судьбе своей, не защищенной «лирическим героем» (никто так толком и не объяснил, что это за зверь), применил только эти строки:
Поедешь налево — умрёшь от огня.
Поедешь направо — утопишь коня.
Поехал. Утопил. Умер.
Память очень похожа на лирику — так же фрагментарна, необъяснима и непоправима. Что вспомнилось — то вспомнилось. Мы все в 90-х много болтали — и мало говорили, словно берегли силы для чего-то, что так и не осуществилось, и пытались осознать, приобрели мы или безнадежно потеряли нечто сущностное:
Когда-то мы были хозяева тут,
но все нам казалось не то…
Но на редком едине с Денисом мы по-прежнему продолжали молчать, словно навеки исключив «устное творчество» из своего письменного сотоварищества. Мы постоянно у кого-то гостили, «пирушка на книжном развале» практически не прекращалась. Мы прихотливыми путями добирались к местам ночлегов, даже если были в них прописаны.
Возвращаясь от Вечеслава Казакевича (он сам давно в Японии), мы с Денисом летим на ночном, рисково остановленном им автобусе-«гармошке», в сторону Петровско-Разумовского, где мне светит пристанище и куда нечем позвонить заранее — сотовая связь еще не внедрена в ту московскую ночь. Он так часто останавливал не желающее останавливаться — просто ложась на капот машины или во всю свою двухметровую стать пересекая ей путь. Но на сей раз денег на пересечение нет совсем.
Мы стоим на месте сочленения этой «гармошки», или «колбасы», самом непрочном в данной модели, призванной справляться с мегаполисным «часом пик», и уже не справляющимся, в круге межсекционного рукава, который поворачивается под ногами, словно сцена Таганки. Зад «колбасы» мотает на ночной пустой дороге, а перед летит, не замечая светофоров. «Гол мой зад, но античен мой перед», — напишет Денис позже. За окнами мелькает тьма — а она тоже склонна к мельканиям, затушеванным неразличимостью. Я неуверенно говорю: «Не пропустить бы…» — имея в виду нужную остановку. Денис усмехается: «Уже пропустили!» — имея в виду то ли выпитое за вечер, то ли что-то, призванное стать грядущим — и несбывшееся заранее, до наступления. А потом выскакивает вместе со мной и стоит у подъезда, пока я бужу домофоном весь этаж. «Как ты доберешься?» — спрашиваю я, даже от себя не скрывая успокоения от достижения цели. «Легко!» — произносит он только что появившееся ироническое обозначение наступающего постмодернистского оборотного времени, где заведомо вместо Манчестера надо читать Ливерпуль. И, как только открывается страшная металлическая дверь, уходит — действительно легкой «есенинской» походкой — на баскетбольных ногах: