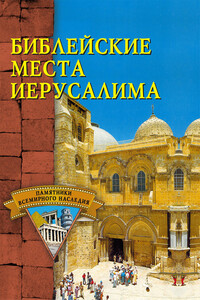Кумар долбящий и созависимость. Трезвение и литература | страница 30
Но Гаршин остался — хотя рядом с ним писал Лев Толстой и угасающий, но лев Тургенев. Последний, как в по-картежному или по-ипподромному любят изъясняться критики, «поставил» именно на Гаршина и назвал именно его своим наследником. Что у них общего? Эргономичность письма и новый способ расставлять знаки препинания — интонировать ими фразу, добиваться практически поэтического синтаксиса. Гаршин — суперкиношный писатель, его рассказ в 6 страниц — готовый сценарий. Но проза последней трети XIX столетия вообще предвосхищает кинематограф: недаром «Анну Каренину» до сих пор что ни год экранизируют, а Чехова и подавно. Гаршин на изображение войны невероятно близким ему художником отозвался вполне синематографическим стихотворением «На первой выставке картин Верещагина» еще в 1974 г.:
Не то
Увидел я, смотря на эту степь, на эти лица:
Я не увидел в них эффектного эскизца,
Увидел смерть, услышал вопль людей,
Измученных убийством, тьмой лишений…
Не люди то, а только тени
Отверженников родины своей…
К ним смерть стоит лицом!..
И, может быть, они ей рады…
Есть нечто, отличающее Гаршина от современных ему русско-европейских титанов. Чехов писал: «Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще». Добавим: к боли, не отрезвляющей кризисом, а смертной, последней. Что же, у Толстого и Тургенева, у самого Чехова нет, что ли, этого «чутья»? Есть, конечно. Но чужая боль не лишала их потребности и воли жить. А Гаршина, сперва напитав и спровоцировав, — лишила. Смерть, «стоящая лицом» к человеку, вычлененному из «черной массы» и «серого строя» войны, стала главной темой рассказов Гаршина. В «Трусе» подробнейше описано умирание студента Кузьмы от гангрены. Смерть героя в первом бою уместилась в трех фразах: «Веселый солдат уткнулся лицом в снег. Когда он поднял голову, то увидел, что «барин» лежит рядом с ним ничком, раскинув руки и неестественно изогнув шею. Другая шальная пуля пробила ему над правым глазом огромное черное отверстие».
Противопоставляя индивидуальную смерть смерти военной, безличной, Гаршин в рассказе уравнивает обе: «Кузьма кажется мне единицею, одной из тех, из которых составляются десятки тысяч, написанных в реляциях». В «Четырех днях» общий план гибели сменяется планом крупным, и получается совсем другое кино: «Пятьдесят мертвых, сто изувеченных — это незначительная вещь! Отчего же мы так возмущаемся, когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами являются несколько человек? Отчего вид пронизанных пулями трупов, лежащих на поле битвы, не поражает нас таким ужасом, как вид внутренности дома, разграбленного убийцей?»