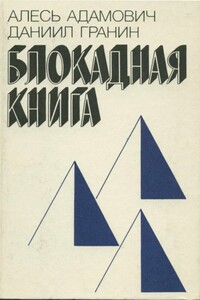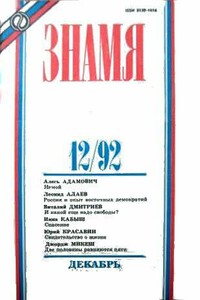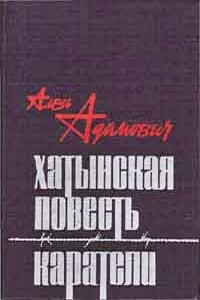"Врата сокровищницы своей отворяю..." | страница 6
Первая белорусская проза XX столетия была очень естественной, реальной по материалу, мотивам, языку, но о ней не скажешь, что она была очень простой по форме. Простота формы здесь мнимая, даже обманчивая.
Столько всего бурлило, искало своего выражения, воплощения — находило и не находило — в пределах самого «простенького» рассказа Коласа, Бядули, Горецкого!
Ведь столько нужно было сказать — за целый народ, за все века! И впервые. Видите, какая сложная задача, цель, идея, а «под руками» формы или очень уж локальные, «местные» (народный сюжет, анекдот, фольклорная «быль-небылица»), или очень «далекие», необжитые, холодные.
Эстетическая задача не из простых! И сами рассказы, повести, самые первые — это поиски, и очень энергичные, все новых и новых форм воплощения, выражения нового содержания.
В каждом из рассказов Максима Горецкого, если брать даже самые первые, ранние, мы найдем несколько «слоев» — житейско-бытовых, лирически или публицистически философских, литературно-ассоциативных...
Ранняя проза Горецкого, стиль которой условно можно назвать «корреспондентским», «нашенивским» [4],— это как бы послания в «свою», в белорусскую газету, прямое обращение к своему читателю-единомышленнику, читателю-другу. Не случайно писатель так любит в это время, молодой любовью любит, жанр эпистолярного рассказа («В чем его обида?»). Потом даже повесть пишет эпистолярную. (Сначала, правда, печатались отрывки-рассказы, отдельные главы — пока не сложилась повесть «Меланхолия».) Все есть в ней: молодая наивность студенческого товарищества и искренность первого знакомства с девушкой, муки из-за непонятной молодой тоски и неразумные мысли о самоубийстве. Левон Задума хочет, собирается «рассчитаться с жизнью», может быть, потому на самом деле не верит, что можно исчезнуть, умереть [5].
Однако за этим — за молодой «беспричинной» радостью и печалью — угадывается, открывается нечто очень реальное, «из тех времен», социально конкретное. Угадывается причина.
«И Левон с какой-то злой радостью, какая бывает у детей, когда дите после обиды выплачется и надумается, как умрет и все будут по нему плакать, так Левон подумал: «Пусть не сбылись те прежние мечты о высокой культуре края и о том кладбище с каменной оградой, с подстриженными деревцами, цветами, памятниками, песчаными и чистыми дорожками.
Пусть себе. Ведь ничего не сбылось, не удалось и все останется, как было сотни лет. Поваленные кресты, изрытые свиньями могилы».