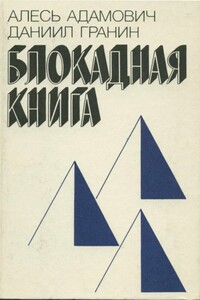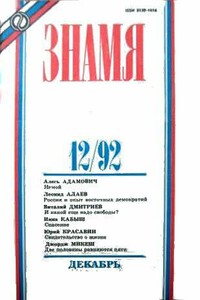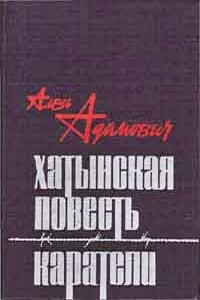"Врата сокровищницы своей отворяю..." | страница 12
Оказалось, у молодого 22-летнего студента-землемера есть целая программа общественной, культурной деятельности. Есть свой и очень своеобразный взгляд на белорусский национальный характер, на то, как писать и что писать, понимание, что имеется, а чего нет у молодой белорусской литературы.
Уже там, в самом начале творческого труда, обнаружился талант не только художника Горецкого, но и Горецкого-исследователя, историка-теоретика литературы.
Самые первые статьи его — «Наш театр», «Мысли и размышления» поражают неожиданно зрелыми заботами о судьбе национальной культуры, литературы, интеллигенции, народа. Оказалось, молодому землемеру из Малой Богатьковки есть что сказать о делах и заботах вовсе не местных.
***
Роль белорусского литератора молодой Максим Горецкий расценивает как нечто чрезвычайно ответственное, высокое, требующее от человека большого общественного, национального сознания, но чуждое провинциальной замкнутости.
В статье «Наш театр», написанной чуть «библейским», чуть «пророческим» слогом, выражается его высокое понимание той роли, до которой белорусским литераторам, белорусской литературе надо дорастать — равняясь на Купалу, на Коласа равняясь...
«А нужно показать белорусу со сцены, что он — человек, и что у него должна быть человеческая гордость, и что он должен детей своих растить совестливыми...
И нужно показать белорусу со сцены, что у него славное прошлое...
И нужно показать белорусу со сцены, что это за человек тот, кто спит беспросыпно, чего он стоит и что ждет его в будущем...Театр наш должен стать храмом нашего Возрождения» и т. д. [7]
Видите — ведь это как бы купаловское «А кто там идет?», повернутое слогом, пафосом к самой литературе.
Человек с деревенской жадностью берет то, что дает ему образование, книга, и все это отнюдь не отгораживает его от своего, от народного, забыто-национального, а, наоборот, лишь повышает национально-культурную оценку и самооценку. Потому что понимает: и белорусы могут, способны, и у них есть что нести «на худых своих плечах»,— горе, беду, но также и ношу культуры, нужной всем.
***
Читая биографические материалы (воспоминания, письма, «Комаровскую хронику»), задумываешься вот над чем. Среди одинаковых деревень и деревенек вдруг обнаруживается такая, которая даст миру не одного, не двоих, а трех, четырех поэтов.
Или какая-то семья, хата в деревне... Кажется, те же крестьяне и те же у них «культурные возможности», как у других, но что-то и как-то сложилось, проявилось (от матери, от отца, от учителя или просто счастливое совпадение обстоятельств), и вот, как в семье Горецких — все рвутся учиться, читать, все пишут. Старший брат Порфирий ведет военный дневник, младший Гурик тоже самоуглубленно занят «построением» собственного характера. А письма, дневники общей любимицы семьи, сестры Ганнушки, так трагически погибшей — сама искренность, вдумчивость, муки чувства и молодого ума о человеческом призвании на земле...