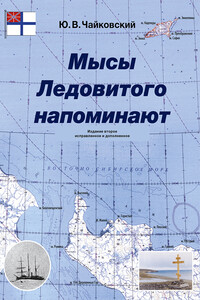Эволюция как идея | страница 69
Любищевские чтения в Ульяновске Наумову удалось устроить уже в апреле 1987 г.[39], когда и в Москве-то едва начинали верить в «перестройку» (всерьез заявленную в конце января 1987 г.).
Кроме Р. В. Наумова, Чтения обеспечивали его ученики:
Анатолий Николаевич Марасов, ставший писателем и философом, поднявший гуманитарную часть Чтений очень высоко. Он сменил в 2000 году Наумова как председатель, каковым работал до 2009 года, когда был «съеден» новым злым начальством;
Владимир Александрович Гуркин, живший в мире, где античная эстетика переплеталась с любищевской, однако умевший (непостижимым для меня образом) тихо убеждать начальство. Уход его из Оргкомитета (что сразу же было маркировано сбоем нумерации Чтений), а затем и с самих Чтений (его теперь занимает только волжское краеведение) было тяжелым ударом;
Григорий Семенович Зусмановский (племянник Александра Григорьевича Зусмановского (1923–2007), о ком у меня много написано), внедрявший тогда в эволюционную науку идеи социальной психологии. О нем немного сказано в главе 2.
Елена Александровна Артемьева, описавшая номогенез крыльев бабочек, держала марку Чтений до самой последней возможности, когда предыдущих членов уже в работе не было.
Из иногородних членов Оргкомитета ярко выделялся Рэм Георгиевич Баранцев, математик-прикладник, философ и лауреат госпремии (чем умел влиять на ульяновское начальство), издатель и архивариус Любищева. Им помогали самые смышленые студенты. Были и другие, с кем иметь дело мне не пришлось.
На Чтениях преобладал удивительно дружный, порою почти семейный дух, и Оргкомитет умел сохранять его во враждебном начальственном окружении. Чтения быстро набрали популярность, и пусть далеко не все могли приезжать, зато присылали тексты, и тоненькие брошюрки тезисов понемногу обратились в толстые тома докладов (а в 2008 г. даже в двухтомник на 662 страницы петитом). Все их украшал жук скарабей — творение прекрасного местного художника Александра Владимировича Зинина. На Чтениях он выступал также с докладами пифагорейского духа, они, кажется, понятны только Марасову, зато его восхищают.
На страницах сборников и развернулось эволюционное братство. Открывали их всегда публикации работ Любищева и сведения о его огромном архиве, затем чаще всего следовали пленарные доклады, доклады эволюционной и гуманитарной секций, после чего — основная по размерам экологическая секция. Последняя не имела отношения к любищевской тематике, зато была главным местом, где могли публиковаться биологи Среднего Поволжья в годы обрушения местной научной печати.