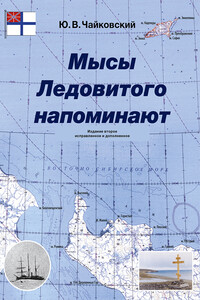Эволюция как идея | страница 54
Как обычно, ложная мысль легко опровергается анализом разнообразия. Наряду с мелкими митохондриями, поверхностно сходными с бактериями, есть много огромных митохондрий, когда одна штука занимает почти всю клетку, оплетая и ядро (4–16, обложка). Но даже мелкие округлые митохондрии, делящиеся перетяжкой, это не потомки бактерий, а энергостанции клетки, так сказать, «грязное производство, вынесенное из города» (из ядра, хранилища постоянной информации). Это стало очевидным, когда основной биоэнергией оказалось гашение АФК, а не безобидный АТФ.
Однако идея симбиогенеза продолжает жить в литературе — просто потому, что надо же как-то объяснять ученикам поразительное сходство многих черт органелл с бактериями, не касаясь запретной темы номогенеза. Однако можно все (а не только избранные) факты эволюции эвкариотной клетки уложить в теорию блочной эволюции, если блоками считать отдельные клеточные структуры. Лишь очень немногие из них возникли de novo.
Потребность в симбиогипотезе отпадает (4–08, с. 464), и можно вернуться к теме прогресса. Следует теперь вспомнить тот внешне заметный прогресс морфологии (появление цветка и ягод, головного мозга и конечностей, и т. п.), о котором пишут учебники.
Прогресс внешне заметного строения
Как и самого Дарвина, «небо» бережет его приверженцев от темы прогресса. Они либо молчат о нем, либо упоминают при перечислении приспособлений, следуя в этом Шмальгаузену, а тот понимал прогресс простодушно — как «отбор на высшую организацию» (см. 4–16, с. 37). В его обширных «Факторах эволюции» есть всего одна мутная фраза, выходящая за эти рамки: «Крупнейшие преобразования, лежащие в основе типов животного царства, основаны на увеличении числа сходных частей и различной дифференцировке гомодинамов и гомономов» (Шмальгаузен, 1946, с.80).
Ссылок ни тут, ни в посмертном издании нет. Однако текст книги — священный до сих пор, и приходится разъяснять, чему, собственно, адепты молятся. Речь тут идет о старой идее Герберта Спенсера, видевшего эволюцию как переход однородного в неоднородное и несвязного в связное (соединение объектов в системы) — см. 4–90, с. 15. Спенсер был очень популярен, и Эрнст Геккель ввел его идею в оборот, а учитель Шмальгаузена А. Н. Северцов ее использовал, подчеркнув, что для прогресса нужно еще и общее повышение активности. Такой вид прогресса он назвал ароморфозом:
«Под именем „ароморфозов“ мы объединяем такие изменения организации и функций животных, которые, имея общее значение, поднимают общую энергию жизнедеятельности организма животных» [Северцов, 1949, с. 194].