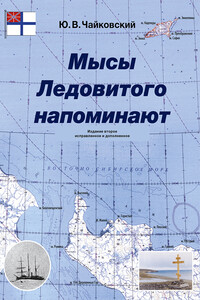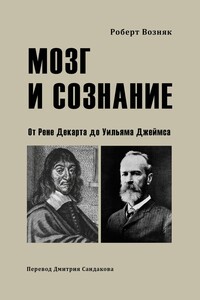Эволюция как идея | страница 47
Экологически порабощение, как и всякое приспособление паразита к единственной жертве, есть сверхузкая специализация, а ее не раз предлагали (в том числе А. А. Любищев [4–90, с. 59, 107]) понимать как рутинизацию, т. е. как отпадение неиспользуемых вариантов (т. е. по Ламарку). Паразит якобы селился на многих видах и поражал их различными способами, но они отпали за ненадобностью. Это возможно, но тоже оставляет без ответа вопрос об источнике разумного поведения данной особи (или ее личинки) здесь и сейчас. Ответа нет, но диатропика указывает, где есть смысл искать его.
Порабощение — отнюдь не редкость, а крайняя позиция в рефрене «социальный паразитизм», высший прогресс в каждом его ряду. В согласии с принципом компенсации Аристотеля, оно реализуется у самых просто устроенных паразитов, у личинок. Но сам этот принцип откуда, из какого учения? Или он сам по себе? Чтобы двигаться дальше, требуется навести хотя бы самый грубый порядок в основных эволюционных учениях. Что касается прогресса, то важно, наконец, понять:
«Критерий прогресса должен быть таким, чтобы по нему можно было сравнивать положение в эволюционной системе любой филогенетической линии. „Критерий на человека“ оставляет вне возможности сравнения не только растения, но и боковые ветви эволюции животных» [Наумов, 2004, с. 194].
Да и сами учения необходимо как-то группировать. Г. С. Зусмановский [2007] предложил интересную группировку учений об эволюции видов, увязав их с психотипами их основателей. Ее надо учитывать, однако в наши дни всё больше внимания привлекает эволюция сообществ и, прежде всего, экосистем. Этим занята ЭКЭ.
Эразмовы и бэровы учения
Для нынешнего понимания биоэволюции удобно разделить традиционные эволюционные учения на эразмовы (организмоцентрические) и бэровы (объект интереса которых — упорядоченность экосистем, а в наше время — и всей биосферы).
В эразмовых учениях (названы в честь Эразма Дарвина) организм создается постепенно (миллионы поколений) таким, каким требует среда; а сходство трактуется как итог родства.
Наоборот, в бэровых учениях (в честь Карла Бэра) новый организм, прежде небывший, создается сразу (в несколько поколений) как комбинация возможностей, заданных законами становления и устройства форм и функций. В этих учениях форма — самодовлеющая сущность, среда — итог взаимодействия организмов, а сходство — итог общности законов онтогенеза (Ч-10, с. 185–189, 350).
Два их главных отличия от эразмовых — признание первичной целесообразности живого и упорядоченности вариантов изменчивости — в качестве двух самостоятельных свойств природы, в качестве ни из чего не выводимых сущностей. Третье отличие бэровых учений от эразмовых видится в стремлении исходить, по возможности, из эмпирических обобщений (отбор таковой не является).