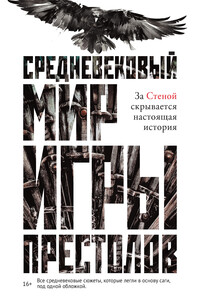Юрий Поляков: контекст, подтекст, интертекст и другие приключения текста. Ученые (И НЕ ОЧЕНЬ) записки одного семинара | страница 93
Интерес к социальной конкретике, изображению жизни жителя столицы обнаруживается ещё в раннем творчестве Ю. Полякова, где в своих поэтических текстах автор создает предельно укрупненный и яркий образ Москвы. В творчестве Ю. Полякова, являющегося по преимуществу московским писателем, проявляются черты такого ярко литературного явления, как московский текст. Сатирическая традиция М. Булгакова в творчестве Ю. Полякова находит свое продолжение: как и классик XX в., Ю. Поляков воссоздает образ столицы и ее жителей как карнавальный и авантюрный мир, со своими нелепостями, курьезными случаями, не прибегая при этом к фантастическому вымыслу и мистификации. В гротескном изображении, как апогей шутовства предстает и общественно – политическая жизнь, и частные судьбы, любовная линия, большая история и советская Москва.
В романе «Любовь в эпоху перемен» принцип детализации реализуется на протяжении всего текста, причём деталь в романе многомерна, она служит для раскрытия внутреннего мира персонажей, обозначает важные общественные настроения, является выражением эпохи. В центре повествования в романе «Любовь в эпоху перемен» редакция еженедельника «Мир и мы». Описание предваряется экскурсом в прошлое, о котором вспоминает главный герой Гена Скорятин: «…Уполномоченный главлита, молодой смешливый парень, сидел в отдельном кабинете без таблички. На стене большая карта нерушимого СССР и вырезанный из журнала портрет старины Хэма в знаменитом шкиперском свитере. <…> Цензор всегда работал, как бухгалтер, в нарукавниках – свежие оттиски пачкали одежду. Он откладывал новый роман Хейли или Стругацких, просматривая полосу, приветливо кивая каждый раз, когда видел, что его замечания учтены и текст исправлен» [Поляков; С. 18–19]. Атрибуты времени, такие, как «карта нерушимого СССР», «потрет старины Хэма», романы Стругацких и Хейли, создают образ цензора, пронизанного авторской иронией. Журналистика, находящаяся под властью цензора, и «власть», напоминавшая «тяжелого и подозрительного больного» [Поляков; С. 18], осмысляются главным героем двояко. На контрасте с очевидным критическим взглядом на прошлое в данном описании звучит фраза «Ах, какое было время!» [Поляков; 18]. Родное для главного героя время, период его стажёрской молодости, не может не оцениваться субъективно. Время юности, расцвета, надежд и ожиданий представляется герою несомненной ценностью, является частью личного опыта и составляет неотъемлемую часть «я».