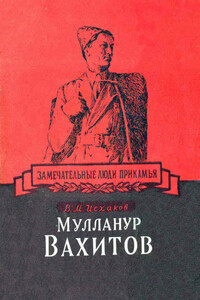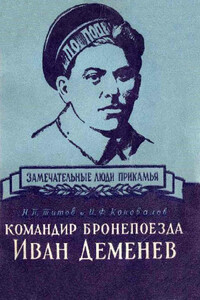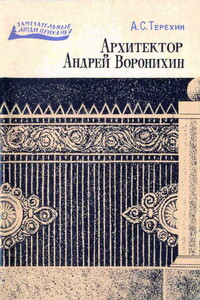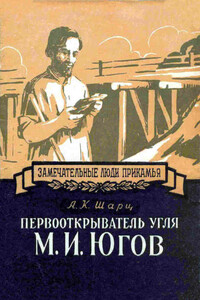Географ В. А. Кондаков | страница 16
Большой подъем у всех педагогов Перми вызвал приезд наркома просвещения РСФСР А. В. Луначарского. Об этом в журнале «На третьем фронте» Кондаков писал: «7 июня 1923 года на платформе Пермь I собрались представители партийных, советских и профессиональных организаций, просвещения, студенты университета, учителя техникумов и школ, дети детдомов и юные пионеры. Пришли встречать пламенного революционера, первого наркома просвещения Советского государства. Тысячная толпа при выходе тов. Луначарского из вагона приветствовала его громким «ура». Возник митинг. Первым говорил от просвещения тов. Попов. Он хорошо сказал: «Мы имеем опыт в работе, но мы нуждаемся в идейном руководстве. До сих пор мы такое руководство и получали из центра, сейчас мы надеемся все услышать от Вас непосредственно». И добавил, что мы пытаемся строить новую педагогику».
Представителем от старой профессуры выступил Сырцов. Он весьма сдержанно произнес: «Ваше имя связано с наукой, и мы ценим Вас… Работники университета ждут Вас к себе».
Тепло прозвучало приветствие ученика из «Муравейника»>{13}. Он начал так: «Уважаемый Анатолий Васильевич! Мы рады, что Вы посетили нас». Затем рассказал, чем они занимаются. Закончил словами: «Передаю Вам привет от «муравьев», и мы надеемся, что Вы посетите наш «Муравейник».
В ответной речи Луначарский ответил и «муравьям»: сказал, что в «Муравейнике» надеется побывать, но во все ходы, коридоры заглянуть не удастся. «Вы знаете, — добавил нарком с улыбкой, — что ученый Форель изучал муравьев восемьдесят лет». Анатолий Васильевич передал приветствие от рабоче-крестьянского правительства. На следующий день 8 июня выступал перед работниками просвещения, студентами рабфака и совпартшколы. В переполненном помещении Пермского гортеатра было душно, стояли вплотную во всех проходах, но никто не шелохнулся, пока говорил нарком.
Луначарский говорил, что школа и вообще просветучреждения в Советской России — естественный и верный государственный банк, который народу и республике возвратит положенные в него богатства сторицею. Просвещения вне политики нет, третий фронт — фронт остро политический.
«Мы были тогда воодушевлены и жаждали работать еще лучше», — вспоминал Кондаков.
Кондаков дает открытые уроки, обменивается опытом, проводит экскурсии с учащимися, с педагогами, а летом, как и в прошлые годы, — беспрестанный поток различных курсов и напряженная педагогическая деятельность.
В один из вечеров Вадим Александрович шел после рабочего дня по знакомому пути. Около двадцати лет прошло с тех пор, как после уроков он мчался с книжками по этим кварталам в небольшое здание бесплатной народной библиотеки. Вот перед ним те же каменные ступени, та же комната со стеллажами книг. И как велика была радость, когда он увидел Зою Александровну Будрину. Эти светящиеся особой теплотой глаза, приветливая, добрая улыбка на сильно похудевшем бледном лице. Они были взаимно рады неожиданной встрече, и оживленная беседа продолжалась долго. В тот день Кондаков узнал о многом. Прежде, получая из ее рук книги, он видел в Зое Александровне доброго советчика, но не подозревал в этом человеке большую душевную красоту.