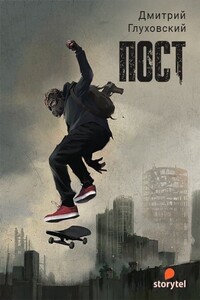Пост 2. Спастись и сохранить | страница 54
— Песня класс, — говорит она. — Музыка особенно. Про кого?
— Про меня, — отвечает Егор. — Ну и про тебя тоже.
— Берешь меня с собой? — спрашивает Мишель. — В свой поход?
— Конечно. Пойдешь?
— С тобой куда хочешь. Хоть на край света.
— Давай в обратную сторону, — предлагает Егор. — В Москву.
— Ок.
Она перекидывает ноги обратно — колени загорелые, ветер лезет под платье, она со смехом пытается его приструнить — и подходит к Егору. Наклоняется к нему, пахнет земляникой. Целует в щеку — в уголок губ — в губы. Это и сестринский поцелуй, и материнский, и любовный: такой, от которого Егор наполняется не похотью, а сияющим счастьем; теплым счастьем от того, что его приняли, почувствовали, поняли и приняли навсегда.
Он просыпается с улыбкой. Песня, которую он только что наизусть пел, тает, как буквы, которые пальцем по воздуху пишешь, и забывается навсегда за несколько секунд. Но медовое тепло из сна залило все раны у него внутри, все обезболило, все обеззаразило.
В пыльном и заиндевевшем окне слабая луна и голые деревья, света в дом падает мало, как на дно колодца. Но Егор видит Мишель хорошо. Они лежат друг напротив друга. Мишель обложилась детьми, Егор один. Ее лицо перемазано кровью и копотью, перечерчено высохшими руслами слез. И все равно она очень красива; Егор слышит в себе такую к ней нежность, еще после сна, наверное, не выветрившуюся, что перевешивается через сопящих детей и осторожно притрагивается к ее щеке, гладит ее. У нее теперь никого не осталось, никого и ничего, кроме Егора, — и значит, она теперь будет с ним, она будет его, а он будет принадлежать ей, потому что у него тоже больше нет совсем ничего; выше цену, чтобы быть вместе, заплатить нельзя.
Мишель вздрагивает. Он отдергивает руку.
Она открывает глаза. Кивает ему молча: что?
Егор приподнимается, садится к окну. Дышит на стекло и по испарине пишет: «Ты очень красивая». Мишель хмурится спросонья, кривит губы. Показывает сердито ему на волосы, на лицо: я чучело. Отворачивается. Он остается сидеть, глаз с нее не сводит. Она ерзает в постели, потом недовольно оглядывается на него снова: чувствует. Садится тоже. Пишет на стекле: «Хорош пялиться!»
И все: мед киснет, сворачивается, плесневеет мигом, и все обрушивается на него заново. Все, что видел, и все, что делал. Он еще пытается цепляться за ту Мишель, не глухую, с которой во сне разговаривал. Она стирает рукавом Егорову писанину и строчит ему — «Спи давай. Мне надо выспаться. Я хочу завтра сразу до Москвы».