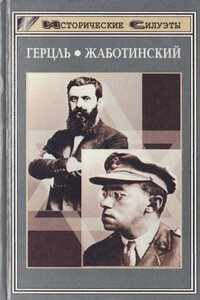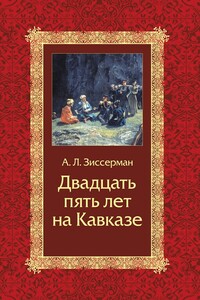Три города Сергея Довлатова | страница 40
Довлатов нашел более изысканный — по сравнению с французом — способ нарочитого ограничения, давший исключительный эффект. Я попробовал написать так — и написал — предисловие к довлатовскому «Заповеднику». И убедился в продуктивности метода: никто из читавших этот текст на его «тайну» внимания не обратил. Следовательно, она имеет органическую природу, ведь и читающих Довлатова вряд ли отвлекает сама технология его письма. Подразумеваемый комплимент заметил бы Довлатов, ради него я и писал: первую страницу — весело, затем — ощутив всю напряженность и тяжесть подобного труда. Жаль, книжка вышла недели через две после Сережиной кончины. И это была его первая книга на родине.
Довлатовский жанр возник на фоне доминирующей стиховой культуры ленинградской творческой молодежи начала 60-х и был в общих чертах на нее реакцией и ее же детищем. Сюжеты Довлатова представлялись рожденными для этой поэтической вакханалии, казались застольным ее вариантом, выдумкой в духе, скажем, Евгения Рейна. Когда б не одержимость вырабатывавшего новый художественный дискурс автора. Как Владислав Ходасевич «гнал» свои стихи «сквозь прозу», так Сергей Довлатов каждую свою прозаическую строчку «гнал» «сквозь стихи», сдирая с нее все внешние приметы поэтичности. Но память о стихотворном ритме, лирическом гуле эта строчка сохраняет. Стиху она не враждебна, тянется из дебрей поэтической просодии, стиховой выучки. Ранние довлатовские рассказы, такие как «Блюз для Натэллы» или «Когда-то мы жили в горах», являются в чистом виде «стихотворениями в прозе», их вполне можно членить на строфы:
И так далее. Финал «Иной жизни» и вовсе зарифмован — на манер финала набоковского «Дара».
Явного внесения метра в прозу следовало тем не менее избегать: рассказы не читают скандируя или притоптывая. Опыты в духе Андрея Белого казались Довлатову интересными, но нарочитыми. Его интриговала тайна синтаксической простоты «Капитанской дочки», «Повестей Белкина», а также заново открытого в 60-е Л. Добычина, автора «Города Эн».
В литературе о Довлатове уже набралось суждений о его изначальном навыке зарифмовывать строчки, прислушиваться к звучанию фразы. Без этого опыта его проза не приобрела бы той непринужденной лапидарности, которой она обладает. В ее основе, пользуясь выражением Б. М. Эйхенбаума, лежит свойственная стихам «слоговая устойчивость», соразмерное синтаксическое членение. Стиховая просодия сохраняется и в зрелых его произведениях.