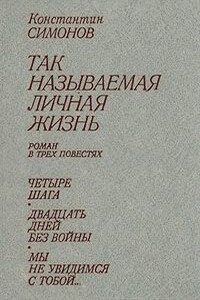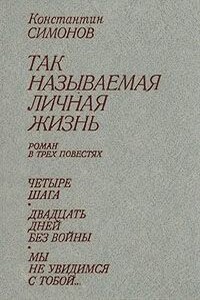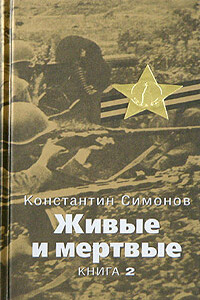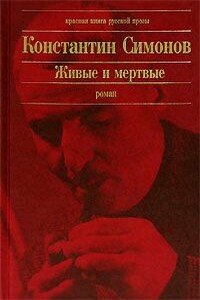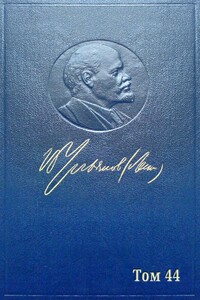Двадцать дней без войны (Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина) - 2) | страница 25
И вдруг, когда она случилась, еще не доехав до нее, после первой большой бомбежки вернулся с дороги в Москву и лег в больницу, а еще через месяц оказался безвыездно здесь, в Ташкенте.
Было не с ним одним; было и с другими такими же сорокалетними, как он. И на фронт не ездили, а просто эвакуировались, уехали. Приняли близко, некоторые даже слишком близко, к сердцу советы сберечь себя для литературы и получили разные брони.
Но другим как-то забыли это, спустили - кому раньше, кому позже. А ему - нет, не забыли! Слишком уж не сходилось то, чего от него ждали, с тем, что вышло...
"Но ведь и он сам тоже, наверное, ждал от себя другого, чем вышло? И не может этого ни забыть, ни простить себе, - думал Лопатин, глядя на молча сидевшего Вячеслава Викторовича. - Иначе о чем говорить и зачем говорить?"
- Можешь мне не верить, - наконец оторвав руки от лица и положив их перед собой на стол, сказал Вячеслав Викторович, - но я правда заболел тогда. Страшно, глупо, может быть, для когото неправдоподобно, но заболел. Когда наш эшелон там, не доезжая Минска, разнесло в щепы и я вылез из-под откоса, среди стонов, среди кусков людского мяса, только что бывших людьми, я понял, что не смогу сесть на другой поезд и ехать еще раз через все это - туда. Меня рвало раз за разом, до желчи, до пустоты, и я не мог преодолеть себя. Я вернулся в Москву с этой трясучкой, которая и до сих пор не прошла. И врачи мне сказали, что я болен, что у меня после шокового потрясения... - Он употребил латинское название болезни, которое Лопатин где-то слышал. - Я не просил; они сами, видя мое состояние, отправили меня на комиссию и демобилизовали.
"Не был бы ты известный писатель, на комиссию, может, и послали б, а демобилизовали бы вряд ли! Отправили бы на первое время в тыловые части, с ограниченной годностью", - жестоко подумал Лопатин, не из неприязни к Вячеславу, а просто так, для точности. В таких вещах он любил точность.
И Вячеслав Викторович словно угадал его мысли:
- Не думай, я понимаю, что с кем-то другим могли бы и подругому. Но со мной так. И наверно, правильно. Ты можешь сказать, что еще не поздно, что я могу попроситься и мне разрешат поехать в какую-нибудь армейскую газету. Наверно. Но я не могу.
И не потому, что цепляюсь за жизнь. Не цепляюсь. Совершенно не хочу жить. Но боюсь самого себя. Боюсь во второй раз того же позора. Я не могу перешагнуть не через страх смерти, а через ужас этой боязни за самого себя. Что ты молчишь, как проклятый? Что я еще должен тебе сказать, чтобы ты сам наконец заговорил?!