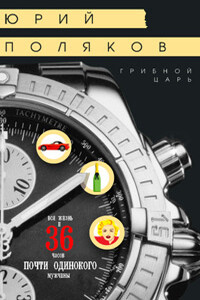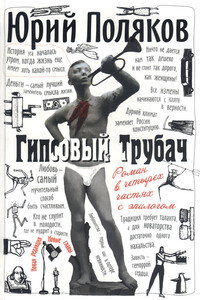Пересменок. Повесть о советском детстве | страница 7
— Эх, ты! При ребенке! Не стыдно?
— А ну вас всех к лешему! — выругался отец, закурил беломорину и включил телевизор еще громче.
Дикие звуки половецких плясок наполнили комнату. Хорошо, что в нашем старинном доме стены толщиной в метр и соседи ничего не услышат, даже если у нас будет петь вживую хор Большого театра.
«Бог любит троицу», — насмешливо подумал я, подкладывая себе картошки.
В моем воображении уже расстилалось, искрясь, как платье певицы Гелены Великановой (бабушка Аня считает, будто у нее один глаз стеклянный), лазурное море с белыми теплоходами на горизонте. Пенные голубые волны, шурша, накатываются на прибрежную гальку, и видно, как в прозрачной воде проплывает, сверкая боками, косяк серебристой чуларки, а чуть дальше качаются синие студенистые медузы.
Лида встала и решительно выключила звук телевизора, потом спросила меня сахарным голосом:
— Сынок, ты в чем на юг поедешь?
Если родители ссорятся, то разговаривают со мной нарочито ласковыми голосами, состязаясь в любви к ребенку. А когда мой брат Сашка был еще грудничком с большими, умными, но ничего не понимающими глазами, они, перебивая друг друга, излагали ему свои доводы в споре. Он в ответ пускал пузыри и беззубо улыбался обоим.
— Профессор, я тебе, кажется, вопрос задала!
— Не знаю... В чем обычно...
— А на ноги?
— Кеды.
— Запаришься. Это же юг.
— Я там во вьетнамках буду ходить.
— Вьетнамки не обувь.
— Сандалии возьму.
— Ты же их порвал.
— А разве не починили?
— Нет, мастер сказал, ремешок пристрочить уже не к чему... — вздохнула Лида и громко, с укором произнесла: — Ребенку вообще ходить не в чем! Как беспризорник...
И хотя слово «вообще» было произнесено трагически, отец даже ухом не повел, он, насупившись, уставился на экран, где метались половецкие красотки с огромными приклеенными ресницами и косами до пола.
Маман некоторое время подозрительно смотрела на распущенных азиаток, и по лицу ее пробежала тень.
— Миш, еще картошечки положить?
— Сыт.
— Ну, как знаешь... — нахмурилась Лида, и на ее красивом лице появилось выражение жалкой беспомощности, обычное во время ссор с отцом, если, конечно, дело не касается запаха чужих духов и следов помады на рубахе. Тогда она вскрикивает не своим голосом: «Опять!» — и по квартире, как в книжке «Понедельник начинается в субботу», начинают летать вещи, а в наэлектризованном воздухе вспыхивает жуткое имя — Тамара Саидовна. Или просто Тамарка! Тимофеич тут же дает честное партийное слово, мол, у него и в мыслях ничего такого нет! Если Лида верит, меня отправляют гулять во двор. Дождь там, снег или вьюга — значения не имеет. Я тихо удаляюсь, понимая, что взрослым в присутствии детей мириться как-то неловко. А ссориться — ловко? Если же маман упорствует в подозрениях, отец достает из-под кровати фибровый чемодан, швыряет туда какие-то вещи и со словами «с вами тут рехнешься!» уезжает ночевать к бабушке Ане, на Чешиху, где, между прочим, прописан, о чем ему Лида вдогонку и напоминает. Потом она, конечно, переживает, вздыхает, поскуливает, капает на сахар валокордин, выдерживает характер. Однако отец уезжает ненадолго: там, на Чешихе, ему еще хуже.