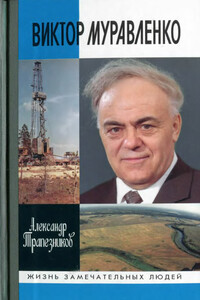Я — русский еврей | страница 43
Мы часто ходили вместе в консерваторию. Зина не была музыкальной, но по доброте уступала мне. Там же мы находили место побыть наедине. Мой друг, тоже студент-физик, жил во втором этаже флигеля, в комнате с окнами в консерваторский двор, где сейчас стоит памятник Чайковскому. Тогда памятника еще не было, и на его месте у разбитой клумбы рос огромный куст сирени, всегда живой от неугомонной воробьиной стаи. В первом этаже флигеля жили знаменитый органист Александр Федорович Гедике с женой, воспитывавшие несметное количество кошек. В весенние дни Зина и я частенько сидели на подоконнике у раскрытого окна. Гедикевский кот выходил из подъезда, по-пластунски, мягко выгибаясь, крался к сиреневому кусту и замирал у самой клумбы. Куст гудел, как улей, и воробьи, казалось, не замечали опасности. Наконец, разжавшись, как пружина, кот делал отчаянный прыжок, и воробьи разлетались по деревьям. От стыда кот широко зевал и, делая вид, что ничего не произошло, лениво отходил в сторону… После первых летних дождей в консерваторском дворе остро и свежо пахло липой и сиренью. Шли экзамены. Из открытых настежь классных окон вразнобой звучали звуки фортепиано, скрипки и гобой. На душе было тревожно и сладко — и казалось, что вот-вот придет настоящая радость и что все еще впереди.
Осенью и зимой пятьдесят второго мы редко виделись. Зина училась на ядерном отделении и находилась где-то на практике. Меня «на ядро» не приняли из-за анкеты. В то время жизнь ядерного отделения была овеяна романтической тайной. Студентам-ядерщикам запрещалось в разговорах не только упоминать место практики, но даже называть фамилии своих преподавателей. Забавно сейчас вспоминать, как в дымной папиросной компании под звон посуды один говорил другому: «А ты слышал вчера, какую хохму в питомнике отмочил Лев?» И другой отвечал: «Да, но Сереженька ему тоже вставил». И я не знал тогда, что Лев — это знаменитый Ландау, Сереженька — менее знаменитый Тябликов, а питомник — лаборатория в Физическом институте Академии наук. Поговаривали, что нашим ядерщикам запрещалось ходить в рестораны и даже дружить со студентами других отделений. Мало того, сами эти запреты были строжайшим секретом. На студенческих вечеринках мы часто сидели рядом. Зина принимала участие в общем разговоре, говоря на этом непонятном для меня условном языке. Иногда ее сосед шептал ей что-то на ухо, и она громко смеялась. А потом, увидев вопрос на моем лице, говорила: «Это об одном из нашей конторы. Так, ничего особенного…» А я не мог понять, почему в веселой и беззаботной компании мне становилось тяжело на сердце.