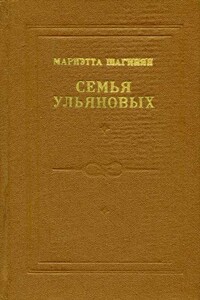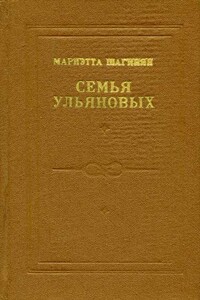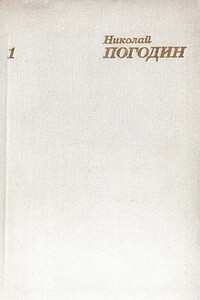Первая всероссийская | страница 55
— Егор Львович! Федор Иванович! — Юркая фигурка Варвары Спиридоновны, с накинутой поверх бумазейного капота шалью, бочком протиснулась в дверь. Она давно хотела прекратить этот ночной разговор, ставший очень громким. Ей было известно, что дворник-татарин пребывал на кухне у кухарки. Он, вместе со многими московскими дворниками, получил от управы распоряжение, — смыть этот конфуз на воротах «От постоя свободен», оставшийся с незапамятных времен, хотя постои давным-давно отошли в прошлое. А вот фамилии домовладельцев, — грозно вещал этот же приказ, — не везде проставлены и кое-где стерлись от дождей, их требуется четко выписать. «У нашего барина все, как надо», — пришел сказать дворник и что-то уж очень долго рассказывал кухарке о приказе. Варвара Спиридоновна в это не вмешивалась и мадам Феррари не говорила, опасаясь дворника, — от дворников всего можно ожидать, все они состоят… И не дай бог услышит такой разговор про царя!
Чтобы извинить свое вторжение, Варвара Спиридоновна держала в руках газету чуть ли не месячной давности:
— Егор Львович, Федор Иванович, пардон, что беспокою, хотя час очень поздний и говорите вы на весь дом, даже в кухне все слышно. Давеча я забыла вам еще сказать. Вот вы не верите в високосный год, а почитайте, пожалуйста, о городе Праге… вот. Грозное наводнение… стихийное бедствие. Весь город пострадал от воды, смертные случаи. Двадцать шестое апреля!
Жорж махнул рукой, рассмеялся как-то недобро и, взяв Варвару Спиридоновну за локоток, повел ее из комнаты:
— Спокойной ночи, Федор Иванович, спать, видимо, пора, а может, мама проснулась. Вы проветрите перед сном, а то не заснете.
Федор Иванович открыл форточку, когда они ушли, и не стал ее закрывать на ночь. А ночь глядела в незавешенное окно — теплая, тысячеглазая, и глаза ее слабели и растворялись в потоке оранжевого лунного света. Казалось, луна источает тепло. Открыть бы окно, да со двора прыгают кошки и пугают ночью. Должно быть, пахнет в саду, вот как на «Орфее» сиренью. Орфей…
У Чевкина вдруг до физической боли защемило сердце. Это не в первый раз хотелось ему закутаться с головой, уйти от всех в подушку, к черту послать всех, — ну пусть они правы, пусть, лишь бы оставили его, такого, как есть. Чевкин опять болезненно переживал чувство своей неполноценности. Чего-то не хватает ему, чего? Для чего надо, чтоб это у всех было? Ну нет у него, ну и что же? Убить, что ли, себя? Нет у него этой критики, этой любви к критике. Так хорошо жить, так все интересно, что окружает человека и происходит на земле. Вот сейчас Выставка, — он ухватился воображеньем за Выставку, за цветочные куртины у главного входа с Иверской, цветочные куртины, которыми лично руководит Чичагов в своей черной беретке. Войдешь — и сразу обдаст ароматом, свежий, хороший воздух, словно горный… а и в самом деле на горе… Кремль на горе, площадь на горе…