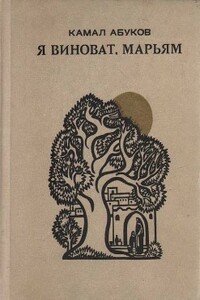Помню тебя | страница 19
Это он меня тогда не в госпиталь, а в санпропускник на станции эвакуированные поезда принимать пристроил: чтобы хоть не такая кровь… И на квартиру к Беловым меня определил — как самую изо всех молодую и жену фронтовика с ребенком. Остальные большинство по баракам стояли.
У Софьи Павловны Беловой было тесно, но она мне вроде рада… У них с престарелой сестрой и инвалидом-отцом одна тесноватая комната осталась, и я в закутке-кладовой при них. Зато поговорить ей есть с кем. Со мною. Только что, перед тем как я вселилась, ей похоронка на сына Юлика пришла. В кладовой раньше его велосипед и книги хранились… Сестра ее старшая, Лера, по Юлику почти без разума стала, бормочет. Отец не встает. Она со мной поговорить рада.
О Юлике все как о живом вспоминает. Иногда и сама заговаривается, как и сестра, спрашивает: поймет ли когда их Юлик, что им теперь вещи на продукты менять приходится? Недавно вот они были вынуждены отдать знакомые ему с детства часы и картины… Только что же я скажу ей и что отвечу, когда горько-то мне самой и страшно за всех?
Что-то со мной сделалось. Приду и ревмя реву. Уже ни того горя, что кругом, ни поодаль, ни Римку свою некормленую не различаю отдельно. Будто накрыло меня с головой тогда… Она же, Софья Павловна, меня утешает. За Римкой моей смотрит.
Тогда что ни день разбомбленные в пути поезда приходили. Что уж там в вагонах дезинфицировать и кого из обломков принимать…
А то еще — все девочку одну: закрою глаза и вижу. Чуть постарше Римки девочка. А может, исхудала совсем. Прозрачная. Тогда пути на Ленинград только что отрезали. Шли еще эшелоны. Последние. На руке у девочки, как у всех по поездам, квиток с именем. Зоя Шатилова девочку звать…
Из вагона все вышли, кто мог. А ее увести не могут. Мать ее в углу лежит, одеялом прикрытая, и она за нее уцепилась.
«Пойдем, — говорим мы ей. — Тише, спит мама твоя. Пойдем».
«Жива мама! Она живая», — твердит.
«Да как живая? — И снова: — Спит она. Пойдем!..»
«Живая мама! Вон брови у нее шевелятся. Не пойду!..»
А у ней и вправду, у застылой, брови от насекомых будто шевелятся… Десять дней эшелон под бомбами до Москвы добирался. Так мы девочку ту только вместе с мертвой и унесли. До ночи мы Зою уговаривали. Пальцы ее отцепляли. Кормить ее пытаемся, а она глотать не может. Ослабела. Из Ленинграда детишек и женщин — почти каждого надо было в госпиталь…
Домой иду оцепенелая. Дежурство, как обычно, двенадцать часов. И ото всего оцепенелая. Тут вспомнила я вдруг Римкину шейку заморенную, и глаза одни на лице… И тогда будто толкнуло меня что. Будто проснулась я теперь уже! Бегу, задыхаюсь словами незнакомыми, истошными, как бабка моя твердила когда-то или мать: «Господи, что ж с Римкой-то будет, если со мной что? Не приведи… господи! Как же я-то тоже буду… если с ней что?!» Домой влетела. Софья Павловна испугалась моего вида. Руками машет. Потом меня даже по щекам отхлопала, чтобы в чувство привести: да вон она, Римка. Спит…