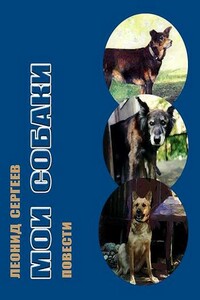Молёное дитятко | страница 43
Мне хочется спать, глаза слипаются, но вот все-таки мама входит и садится на мою кроватку, в ноги ко мне, и я чувствую ее легкую руку на своем колене, запах табака, которым вся она пропитана, и еще какой-то восхитительный и горький, отчетливый и безымянный запах… И вот я шепотом спрашиваю ее, но совсем, совсем не о том, что планировала. Я вдруг спрашиваю ее с гаденькой, фальшивой интонацией «хороших детей»:
— Мама, ты всегда будешь такая старенькая? Или потом помолодеешь?
Мама не отвечает. Она молчит. Слава богу, я не вижу ее лица. Но ее начинает потрясывать, дрожь передается через матрас мне, и вот короткий раскат сдавленного то ли рыдания, то ли смеха вырывается из маминой груди и горла. Нет, все-таки она смеется… или плачет?.. Я жду в страхе. Нет, я не готова к встрече с этой женщиной, я ее не ждала. Но что это за боль в моем… не знаю, в чем. В голове? В животе?.. Где во мне то место, которое так тонко, так неуловимо болит, что хочется плакать, и я задыхаюсь, и, кажется, сейчас исчезну. Какой ужас!..
Но мама наконец успокаивается и говорит низким своим хрипловатым голосом, похожим на родной, бабушкин. Она говорит:
— Девочка моя, не бойся, это я просто очень устала. Я потом стану моложе. У меня просто болит душа, и у тебя она, наверное, тоже болит. Это пройдет. Мы будем жить очень весело и счастливо. Как никто никогда не жил! Все будет чудесно, вот увидишь…
Много после я никак не могла понять, откуда во мне взялся тот дурацкий, как бы наивный, вопрос. На самом деле фальшь и пошлость втираются к нам с младенчества, они подсказывают самые легкие, самые быстрые, но и самые постыдные, самые подлые способы уйти, сбежать, избавиться от настоящей жизни. Которая так часто бывает трудна, ну просто невыносима. И все-таки она лучше, чем эти уловки, эти глупые хитрости. Настоящая, откровенная жизнь содержит возможность ослепительного счастья. Очень, правда, редкого. Но пошлость и фальшь — ничего не содержат. Они пусты, как шутки идиотов, которые нет-нет да норовят подарить ребенку аккуратно свернутую конфетную обертку без самой конфеты.
Мне стыдно до сих пор за ту минуту, за тот мой вопрос. Но мама — она была на высоте. Она все знала про мою совсем еще маленькую и напуганную душу…
В общем, и тут все обошлось.
Мама поцеловала меня на ночь, и я сразу уснула. Во сне я всегда выздоравливала от всех болезней. И от стыда — тоже…
А чемодан оказался полупустым. В нем лежала перемена лагерного, убогого, но тщательно проштопанного и чистого белья, включавшего простые чулки, голубые панталоны, полотняный пояс с подвязками, бязевый бюстгальтер, две пары носков и нижнюю рубашку с кальсонной пуговкой у ворота. Была еще вязаная фуфайка неопределенно-горчичного цвета и тапочки-тенниски, пахнущие зубным порошком. В отдельном пакете из желтоватой пергаментной бумаги лежали пахнущие скипидаром кисти и краски в тюбиках. Еще там был вонючий мешочек, туго набитый махоркой. Еще там был синий маленький томик Александра Блока, несколько исписанных общих тетрадей в дерматиновых обложках, пачка открыток, полученных в лагере. И еще какой-то рулон из бумаги разного достоинства — от обоев до ватмана. Еще — старинная чугунная чернильница-непроливашка без чернил с откидывающейся крышкой, похожей на богатырский шлем с кушаком. Все.