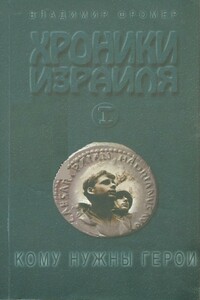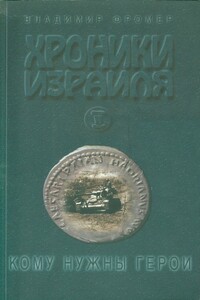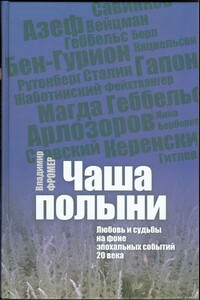Ошибка Нострадамуса | страница 22
— Почему он так изменился? — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда.
— Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом, — его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось про-шутить немного больше и дольше, нежели он предполагал».
Виктория Угрюмова в своей работе «Фиолетовый рыцарь и другие» утверждает, что прототипом Коровьева был вождь альбигойцев, живший в начале XIII века, Раймонд 6-й Тулузский. Ему принадлежит афоризм, ставший основой альбигойской ереси:
— Если Господь всемогущ, и допускает то, что творится в этом мире, то Он не всеблагой. Если же он всеблагой, и допускает то, что творится в мире, то он не всемогущ.
Эта концепция Угрюмовой не выдерживает критики. Во-первых, афоризм Раймонда отнюдь не является каламбуром, а во-вторых, гораздо логичнее предположить, что Воланд, отправляясь в Россию, взял с собой кого-то, кто имеет к ней непосредственное отношение.
Таким существом, при жизни обладавшим демоническими качествами, обеспечившими ему почетное место в свите Воланда, мог быть, конечно, только Лермонтов.
Есть возможность взглянуть на него такого, каким он был при жизни. Для этого нужно прочитать, что написал впервые увидевший его Тургенев:
«В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижных темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовывался с выражением почти детских нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала смущение неприятное, но присущую ему мощь тотчас сознавал всякий. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества».
Конечно, Коровьев совсем не похож на нарисованный Тургеневым портрет, но в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, как остро ненавидел Лермонтов свою наружность, как тяготился ею.
Зная свою хилость, он закалял себя изнурительными упражнениями. Отличался легкостью движений, был великолепным наездником и танцором. Кроме гениального поэтического дара, был наделен и удивительной музыкальностью: хорошо играл на многих инструментах — не исключено, что и на фаготе, — сочинял музыку, пел арии из оперетт. Был превосходным шахматистом и математиком, владел шестью иностранными языками. Он мог бы стать замечательным художником, если бы захотел, но предпочел всецело посвятить себя литературе.