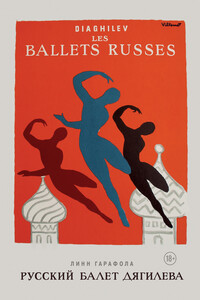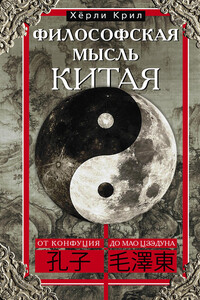Жизнь Фридриха Ницше | страница 60
«Какие враги нашей веры [культуры] растут из кровавой почвы этой войны! Я готов к худшему и в то же время уверен, что среди страданий и ужасов расцветут ночные цветы познания» [19].
Винить во всем нужно было «роковую, антикультурную Пруссию»: вместо того чтобы возрождать творческий дух Древней Греции, Бисмарк превращал страну в Рим – филистерскую, жестокую, материалистическую машину массовых убийств и всяческих грубостей.
Ницше был возмущен кровожадностью и циничной жестокостью пруссаков, умышленно моривших французов голодом во время осады Парижа, которая продлилась с сентября, когда он заболел, до января следующего года.
Его негодование по поводу зверств войны распространялось, впрочем, не только на действия Пруссии. Стоило сформировать новое французское правительство, как против него восстала Парижская коммуна, действовавшая по отношению к собственным согражданам ничуть не лучше пруссаков. Она приступила к кровавым массовым убийствам, вырезая духовенство, заключенных и просто невинных прохожих. Была объявлена и война культуре. Памятники сбрасывали с пьедестала и уничтожали. Музеи и дворцы Парижа, в том числе Тюильри, грабились и сжигались новыми Геростратами. В базельских газетах появилось ошибочное сообщение о том, что разрушен и Лувр. Заслышав такие жуткие новости о сознательном культурном геноциде, Буркхардт и Ницше выбежали на улицу в поисках друг друга. Встретившись, они обнялись, не в силах проронить ни слова от горя.
«Когда я узнал о пожаре в Париже, то в продолжение нескольких дней чувствовал себя совершенно уничтоженным, я терзался в слезах и сомнениях, – писал Ницше, – вся научная жизнь, творческое и художническое существование показались мне абсурдом, коль скоро одного дня оказывается достаточно, чтобы истребить прекраснейшие произведения, даже целые периоды искусства. Я пытался утешаться искренним убеждением в метафизической ценности искусства, которое из-за этих бедняг не могло больше присутствовать в нашем мире, но зато продолжало выполнять более высокую миссию. Но сколь бы ни было велико мое горе, я был не в состоянии бросить камень в тех святотатцев: они для меня – лишь носители нашей всеобщей вины, о которой стоит всерьез задуматься!» [17] [20]
Наступили Святки, и его снова пригласили в Трибшен. В глазах хозяев он вырос, превратившись в философа-воина, но его военный опыт стал пропастью между ними и гостем. Ницше укрепился в своем панъевропеизме, в то время как Вагнер и Козима были полны мстительного ура-национализма. Вагнер даже отказывался читать письма, написанные ему по-французски.