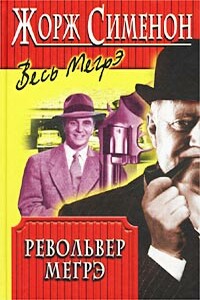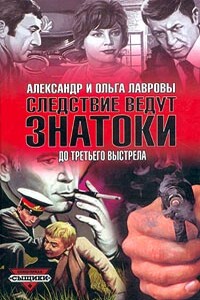Малампэн | страница 55
Это был особый час; стекла окон и двери запотевали. Так как на дверях не было занавесок, их закрывали старым одеялом, потому что я отказывался раздеваться, если меня могли увидеть с улицы. На полу, на куске простыни, большой таз, мыло, щетка, пемза. На столе – ножницы, чтобы стричь ногти на ногах, полотенца и чистое белье. Пахло так, как пахнет в дни стирки. Брат Гильом был уже вымыт. Мать натирала ему волосы одеколоном и расчесывала их.
Отец сидел на стуле, опершись локтем на стол, и смотрел на нас как будто равнодушно. Говорить начала мать, я сидел в тазу.
– Теперь ты уже большой парень. Надо подумать о твоем учении... Не садись на пол, Гильом, ты опять выпачкаешься...
И мать, привыкшая мыть нас, намыливала мне лицо, так что мыло попадало в ноздри.
– В Сен-Жан-д'Анжели школы лучше, чем в деревне, и тетя Элиза согласна позаботиться о тебе...
Я сидел в теплой голубоватой воде с закрытыми глазами, вытянув ноги. Я не протестовал.
– Завтра мы отвезем тебя в Сен-Жан и будем приезжать к тебе каждую неделю.
Я ничего не сказал. Я не плакал. Хотя меня обливали горячей водой, чтобы смыть мыло, я заледенел. Я видел печь, плиту с кастрюлей для супа, кусок одеяла, которым были завешены стекла двери.
– Тетя Элиза тебя любит. Она будет заботиться о тебе.
Прошло какое-то время, пока мать одевала меня, как маленького ребенка, потом я услышал, что она сказала отцу:
– Вот видишь! Он даже никак не реагирует!
Я съел свою порцию супа, потому что помню, это была чечевичная похлебка. Но я не знаю, что мы ели еще. Правда, в субботу после мытья у меня и у брата всегда горели щеки, кололо в глазах и как будто начинался жар.
Нас уложили спать. Я долго слушал, как мать ходила взад и вперед, и когда приоткрывал глаза, то видел, что она складывает мою одежду и белье в плетеную корзину. Особенно точно я помню, что иногда слышал, как корова бьет ногой о выложенный плитами пол в коровнике и лошадь натягивает свой недоуздок.
Свет горел очень поздно. Я спал. Было совсем темно, когда лампа вновь загорелась и я слегка приоткрыл глаза.
Именно тогда я увидел отца: он стоял в рубашке возле моей кровати. Повинуясь какому-то чувству, я не открыл глаза, делая вид, что сплю, и глядя только сквозь щель между ресницами. Раз он был в рубашке, значит, он только что встал. Утро еще не наступило, так как за окном было темно. И это не был вечер, потому что свет в доме больше нигде не горел.
Наверное, он поднялся с постели бесшумно, боясь разбудить мать? Почему у меня создалось впечатление, что он боится, чтобы я не заговорил, что он готов приложить палец к губам?