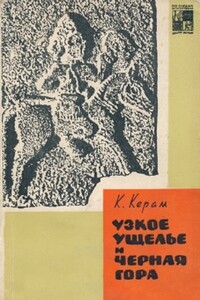От Олимпии до Ниневии во времена Гомера | страница 64
Религия
Для интересующего нас времени характерно удивительное смешение как тех народов, которые почитали племенные божества, так и тех, которые чтили божества природы. Последние едины у всех народов, хотя по предпочтению, которое отдается тому или иному божеству, можно судить об экономических условиях древнейшей эпохи. В основном почитали три божества: астрального (семитического Эля) бога-отца, затем божество грозы (семитического Ваала), который тоже был связан с небом, но только не с созвездиями, а с облаками, и, наконец, богиню-мать с сыном (которого подчас воспринимали как бога грозы). Племенные божества иногда происходили из природных или, во всяком случае, рядились в их одежды. Например, согласно некоторым верованиям, Ягве возлежит на облаках, а Зевса называют «тучегонителем» или «метателем молний». Бывают, однако, и такие случаи, когда племенной бог не имеет никакого отношения к природным явлениям (Ашшур или урартский Халди). С течением времени племенные боги все больше теряют свои конкретные образы и начинают притязать на внеплеменное всеобщее значение. Начиная с Ашшура цари используют это в своих чисто политических целях. У ассирийцев такие претензии носят еще завуалированный, скорее «теоретический» характер, ибо свои грабительские войны они никак не могли выдавать за религиозные.
Во время военных действий участие племенного божества символизировалось тем, что впереди войска несли условное изображение бога, чаще всего в виде штандарта. Впоследствии подобный символический смысл, который придавали богу, стал распространяться повсеместно. У израильтян такой переход завершился сравнительно рано: об этом свидетельствует замена неудобного для переноса ковчега легкой повозкой для штандартов. Причем израильтяне в этом отношении были не одиноки. Ассирия хотя и несколько позже, но не менее решительно перешла к почитанию штандартов и символов. Появление изображения божества, стреляющего из лука на фоне крылатого солнца, было лишь поздним компромиссом. Возможно, здесь сыграли известную роль обычаи арамеев. Бросается, например, в глаза, что Ахаз, выехавший навстречу Тиглат-Паласару в Дамаск, приказывает построить к своему возвращению алтарь по типу дамасского:
«И увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его»
(4-я Кн. царств, 16, 10).
Алтари повсюду выглядели одинаково. Почему же перестройку алтаря следует считать признаком покорности Тиглат-Паласару, а не отнести ее к склонности к арамеянам? Особенно тогда, когда Дамаск был завоеван, а его жители рассеяны. Ахаз в угоду Ашшуру совершает и другие радикальные перестройки, но в его деятельности нет и следов идолопоклонства. В Библии не упомянута статуя бога и говорится о перестройках, предпринимаемых жрецами храма. Может быть, они и были связаны с переходом к условному изображению бога на штандартах? В арамейском городе Самал-Яуди мы встречаем бога-покровителя государства Раккав-Эля, то есть «бога повозки штандартов», а одного из царей там зовут Баррекув, то есть «сын повозки штандартов». Получается, что это важное божество не нуждалось даже в собственном имени. Быть может, Ахаз хотел выдать алтарь за штандарт высшего безымянного бога, угодив таким образом ассирийцам, которые могли подразумевать под «высшим и безымянным» богом Ашшура, не ущемляя при этом религиозных чувств израильтян.