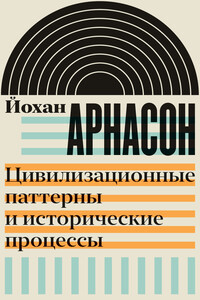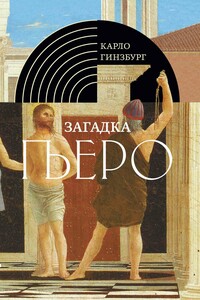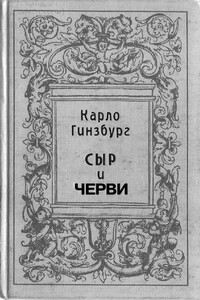Судья и историк. Размышления на полях процесса Софри | страница 19
Действительно, – комментировал председатель, – организатор не получил еще вашего согласия, тем более что Пьетростефани говорит вам: «У тебя еще остались какие-то сомнения. Если это так, то поезжай в Пизу». Вы отправляетесь в Пизу и разрешаете сомнения. Так эта оговорка потеряла смысл, и вы больше не говорили об этом Пьетростефани?
Марино: Нет.
Председатель: Вы виделись после этого с Пьетростефани?
Марино: Нет.
Председатель: В промежутке с 13-го по 17-е…
Марино: Я его видел… нет, нет… Мы встретились уже потом.
Председатель: И Энрико (=Бомпресси) вы тоже не видели?“.
Марино: Нет.
Председатель: Таким образом, Энрико уже уехал по своим делам?
Марино: Да, я встретился с ним уже потом в Милане…
Председатель: Я имею в виду, операция по сути уже началась еще до того, как вы окончательно решили в ней участвовать?
[Отметка расшифровщика: на вопрос, заданный председателем, подсудимый Марино не отвечает.]
Председатель: Хорошо, вы этого не знаете!
Марино: Не знаю.
Председатель: Объективный факт состоит в том, что Энрико уехал еще до 13-го и вы ничего не сказали Пьетростефани об окончательном решении участвовать в деле?
Марино: Нет (Dibattim., с. 281–282).
Как мы помним, Луиджи Феррайоли назвал процесс «уникальным случаем „историографического эксперимента“». Судья, ведущий допрос обвиняемых и свидетелей («источники… разыгрываются вживую»), ведет себя так же, как историк, сравнивающий и затем анализирующий различные документы. Однако документы (подсудимые, свидетели) не говорят самостоятельно. Как подчеркивал более полувека назад Люсьен Февр в своей вступительной речи в Коллеж де Франс, дабы заставить документы заговорить, надо спрашивать, задавать им соответствующие вопросы:
…<историк> не блуждает наугад по прошлому, словно тряпичник в поисках случайной наживы, а отправляется в путь, имея в голове определенный замысел, проблему, требующую разрешения, рабочую гипотезу, которую необходимо проверить. И сказать, что все это не имеет ни малейшего отношения к «научному подходу», не значит ли признать, что мы просто-напросто не имеем отчетливого представления о науке, о ее особенностях и методах? Способен ли гистолог, всматривающийся в окуляр своего микроскопа, сразу же различить сырые факты? Ведь суть его работы состоит в том, что он, так сказать, сам создает объекты своего наблюдения, подчас при помощи весьма сложных технических приемов, и лишь потом принимается за «чтение» своих предметов и препаратов. Нелегкая задача: не так уж трудно описать то, что видишь; куда труднее увидеть то, что нужно описать…