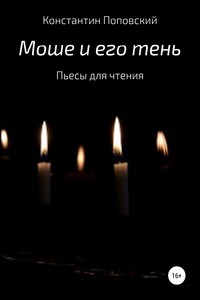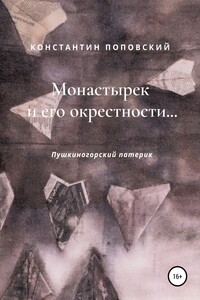Фрагменты и мелодии. Прогулки с истиной и без | страница 75
Это замечание Виндельбанда затрагивает самый болезненный нерв августиновского учения и открывает, вместе с тем, и его «пирроновскую» структуру.
Бог и человеческая свобода, или шире, Бог и человек, Бог и ограниченный дух, – таковы два центральных понятия августиновской философии, между которыми существует такое же отношение, что и между двумя пирроновскими суждениями, – факт, ставящий под сомнение теоретическую ценность августиновской «системы».
Или знаменитая метафизика внутреннего опыта, с которой Августин начинает свое исследование, действительно приводит нас к обоснованию личности, обладающей свободной волей и вслед за достоверностью своего существования постигающей реальность существования Бога – Творца и Спасителя – или же в тварном мире царит установленный абсолютной божественной волей порядок, навсегда предопределивший не только «общую историю искупления», но и место, которое занимает в этой истории каждый, так что – говоря словами того же Виндельбанда – трудно «отделаться от того мрачного впечатления, что вся эта жаждущая спасения жизнь человека, обладающего свободой воли, низводится на степень какой-то игры в тени и марионетки, результат которой уже изначально неминуемо предопределен».
Или грех есть следствие свободы – и тогда перед человеком открывается возможность победы над ним, или же избирающий грех не несет за это ответственности, действуя в силу абсолютности божественного произвола, что приводит нас к сомнению в необходимости искупления.
Правда, у самого Августина мы не найдем этих разделяющих «или… или…». И те, и другие суждения существуют у него друг подле друга, точно так же, как и суждения Пиррона.
Несомненно, что грех, ответственность и искупление немыслимы без свободы. Но несомненно и то, что из понятия божественной воли с неизбежностью вытекает идея предопределения. Несомненно, что я познаю себя в качестве свободно-волящего субъекта: но ничуть не менее несомненно, что искупление уже совершилось (или не совершилось) надо мною, и я не только не волен изменить это предвечное решение, но и не вправе даже знать о нем нечто достоверное. И т.п.
Пирроновская история, как видим, повторяется. Правда, с весьма существенной оговоркой: в отличие от Пиррона, Августин делает всё возможное, чтобы избежать противоречий, а если ему это не удается, то, по крайней мере, представить их как нечто только кажущееся, диалектически преодолимое, способное ввести в заблуждение лишь поверхностный ум, от которого скрыто их глубочайшее внутреннее единство.