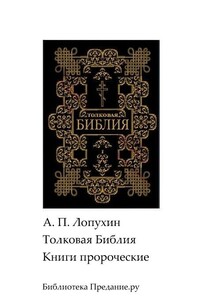Аскетизм по православно-христианскому учению. Книга вторая: Опыт систематического раскрытия вопроса | страница 27
Таким образом, по святоотеческому учению, самостная жизнь человека, замкнутость его в собственной природе, существование для себя и по себе, а не для Бога и в Боге, в действительности – смерть [173]. Здоровьем для души служит исполнение Божественной воли, равно как и наоборот, отпадение от Его благой воли есть болезнь души, оканчивающаяся смертью [174].
С раскрытой точки зрения на сущность истинной жизни – только в единении с Богом, Который есть полнота жизни и вместе и потому самому высшее благо – полнота благ, – становится вполне понятным и святоотеческое учение о пороке, зле, грехе, как собственно лишении, отсутствии бытия, своего рода небытии.
По учению св. И. Дамаскина, «порок не иное что, как удаление от добра, – подобно тому, как и тьма ест удаление от света» [175]. «Зло – не сущность какая–либо даже и не свойство сущности, но только случайное, т. е. добровольное отступление от тою, что согласно с природою, в то́, что́ – противоестественно, в чем собственно и заключается грех» [176]. Таким образом, человек «в преслушании умер страшною душевною смертию» [177], и последующая жизнь человечества представляет собою непрерывное продолжение и бесконечное повторение греховных актов, концом которых для всякого члена человеческого рода могла быть только и действительно была также «истинная смерть», так как «всякий вид греха делается как бы путем к нам смерти» [178] [179]. Понятие о зле, как о грехе, есть одна из самых характерных, специфических особенностей христианской религии.
Лишение истинной жизни, которое началось в человеческой истории после и вследствие грехопадения, нисколько не лежало в планах миротворения. «Бог смерти не сотворил» [180]. Напротив, это было полным нарушением, решительным извращением божественных творческих и промыслительных планов, попранием богоустановленного миропорядка. И сам человек, потерявши «истинную жизнь», с особенной силой познал теперь её высокую цену, необходимое значение, что он и выразил в наименовании своей жены «Жизнью» [181] [182].
Хотя человек резко изменился в своем жизнеопределении, в своих внутренних, интимнейших отношениях к Богу, и по своему душевному состоянию сделался неспособным к непосредственному богообщению, однако, несмотря на это, Бог все–таки не пожелал его оставить, – не допустил, чтобы в роде человеческом, вместо истинной жизни, воцарилась и возобладала им окончательно смерть. Правда, человек уклонился от общения с Богом, разорвал живой союз любви с Ним. Это была жестокая ошибка, страшная вина пред Богом; но человеческая природа, черты богоподобия не уничтожились и не исчезли окончательно в человеке. Он избрал