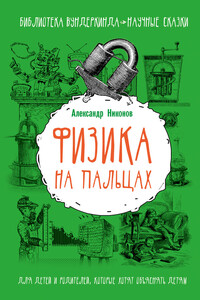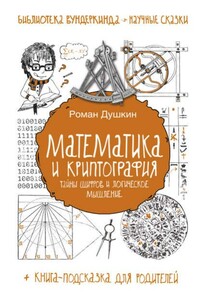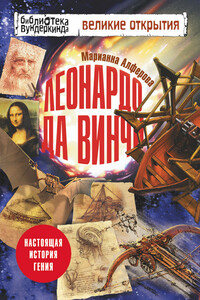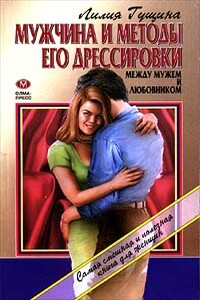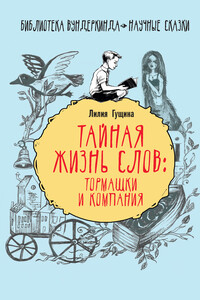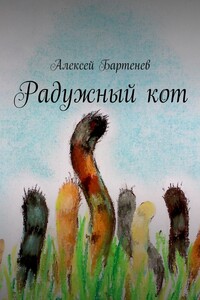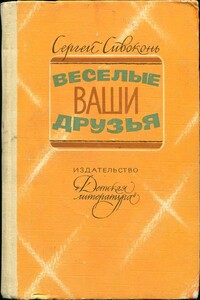Словарные игры и не только. Ики, пики, грамматики | страница 22
21 ноября 1806 года в Берлине был подписан Договор о континентальной блокаде Англии. Европа, по требованию Бонапарта, объявила бойкот британским товарам. Под санкции попал и тростниковый сахар, которого сладкоежки-галлы съедали по сто тысяч тонн в год. А вместе с ним не стало ни эклеров, ни конфитюра, ни марципанов, ни суфле, ни долгоиграющих чаепитий под милый вздор. Кондитеры разорялись, граждане тосковали и роптали, император думал. О чём? О первом в истории импортозамещении, конечно же. И ведь додумался!
При оккупации Берлина французы зачем-то разрушили миниатюрный экспериментальный заводик некого Франца Архара, где он уже год как успешно добывал сахар из кормовой свёклы. Наполеон про заводик вспомнил и велел Французской академии разобраться: возможно ли вернуть подданным сладкую жизнь, а заодно, «набить Мике (то есть Англии) баки», заменив чужой тростник собственными бураками. Академия разобралась и вынесла категоричный приговор – невозможно.
Но для упёртого корсиканца любое «невозможно» звучало как звук боевой трубы. «Нам нет преград ни в море, ни на суше», – возразил Наполеон учёным мужам и тут же отвёл под отвергнутую культуру гигантские площади, посулил неслыханные льготы и государственные ласки сеятелям и фабрикантам. Уже через четыре года академики были посрамлены, а англичане, по ехидному совету Бонапарта, могли сбрасывать свой сахар в Темзу – Европе он был уже без надобности: сахарные заводы, растущие как грибы, радовали её отменным рафинадом.
Между прочим, Россия, тоже присоединившаяся к Континентальной блокаде, была единственной страной, ни часа не скучавшей без заморского тростника: когда французские академики обфыркивали свёклу, русские помещики уже давным-давно понастроили в своих имениях свекловичные сахарные заводики. Не из-за политических дрязг, а ради хозяйской бережливости – своё-то оно всегда и дешевле и вкуснее.
В сентябре 1929 года Анна Павлова вдохновила новозеландских кондитеров. А может, австралийских. Сражение за авторство торта «Pavlova», коронного десерта обеих стран (снизу – безе, сверху – фрукты), созданного и названного в честь русской балерины, длится почти столетие. В нём увлечённо участвуют историки, биографы, университетские профессора, ресторанные критики и даже одна женщина-антрополог, которая не поленилась собрать тематическую коллекцию чуть ли не из тысячи кулинарных книг со спорным рецептом внутри, впрочем, никому и ничего не доказавшую.