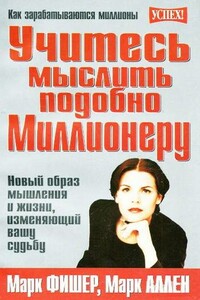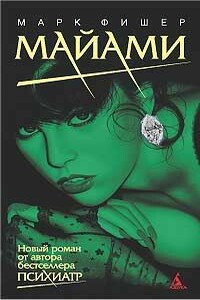Призраки моей жизни. Тексты о депрессии, хонтологии и утраченном будущем | страница 65
Отказ Burial «иметь лицо», то есть быть субъектом медийной машины раскрутки, объясняется отчасти его складом характера, а отчасти нежеланием быть максимально прозрачным и постоянно находиться на виду, как предписывает цифровая культура. «Это как со спиритической доской – все равно что пускать кого-то к себе в голову, прямо в череп. Всяких случайных людей», – писал он в интернете.
«Я просто человек такой, закрытый, – признается он. – Я хочу оставаться неузнанным, потому что предпочитаю быть среди друзей и родных. Да и смысла в этом нет. Взять мою любимую музыку, я не знаю в лицо почти никого из тех, кто ее написал. Это притягивает. Так легче проникнуться ею». Burial не диджеит и не выступает вживую, так что его нельзя даже сфотографировать исподтишка и выложить в сеть. «Я хочу существовать лишь в символе, в мелодии, в названии трека, – пояснил он. – Да это ведь не ново. В андеграунде всегда так делали, так проще». Безличным внешним силам, формирующим человека, Burial придает большее значение, чем многие другие. «В юности ты зависишь от сил, которые не можешь контролировать, – говорит он. – Ты в растерянности; бóльшую часть времени ты не понимаешь, что происходит ни с тобой, ни вокруг». Он знает: его звучание родилось без лица.
Burial – ярый – но безо всякого шовинизма – приверженец британского «хардкорного континуума»>86, из которого выросла его музыка. «Когда очень любишь музыку, вся твоя жизнь начинает крутиться вокруг нее, – говорит он. – Я лучше послушаю трек о реальной жизни, о Британии, чем американский хип-хоп типа „я с твоей подружкой в клубе“. Мне нравится музыка и вокал ар-н-би, но я предпочту послушать что-то актуальное для Великобритании – например, драм-н-бэйс и дабстеп. Раз в жизни услышишь такой андеграунд, и все остальное будет казаться ебаной ебучей пластмассой, копиркой». Так, один из треков с его нового альбома «Untrue» называется «UK»; а другой, один из самых печальных, – «Raver». В творчестве Burial Лондон кажется городом, населенным неприкаянными рейверами; места, где они некогда буйствовали, встречают их запустением; теперь они обречены сравнивать свою жизнь после рейва, полную ежедневных компромиссов, с некогда пережитым коллективным экстазом. Burial заново воображает прошлое, спрессовывает останки забытых жанров в сновиденческий калейдоскоп. Его музыка ближе к скорби, чем к меланхолии, потому что он все еще тоскует по утраченному, все еще не оставляет надежду на его возвращение. «Я включаю многие старые треки по ночам и слышу в музыке что-то, от чего становится грустно, – говорит он. – Кое-кого из моих любимых продюсеров и диджеев уже нет в живых – и во всех старых треках я слышу одну и ту же надежду, стремление объединить Британию. Но ничего у них не вышло, потому что Британия менялась в другую сторону, отдалялась от нас. Может быть, в те годы атмосфера в клубах и вообще не была искусственной, показушной или созданной интернетом. Тогда была молва, андеграундный фольклор. Кто угодно мог выйти ночью и отправиться на поиски. По людям было видно, у них по глазам было видно. Рейверы жили на пределе; не забегали вперед и не отставали – просто находились в текущем моменте и жили музыкой. В 90‐х было заметно, что их этого лишили. Началось засилье суперклубов, модных журналов, транса – клубная культура коммерциализировалась. Всякие дизайнерские бары пытались косить под клубы. Они просто всё забрали. Так что с тех пор начался агрессивный андеграунд. Ушла эпоха. Сейчас нет былой опасности, того самопожертвования, такого блуждания в поисках чего-то. Нигде не спрячешься, СМИ за всем следят». Он разбавляет собственный пессимизм: «Но [дабстеп-вечеринки] DMZ и FWD несут правильную, насыщенную атмосферу и настоящие эмоции. Реальный андеграунд жив-здоров, постоянно выходят хорошие треки».