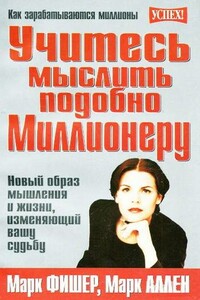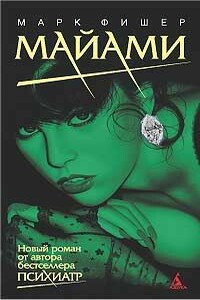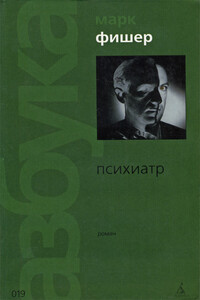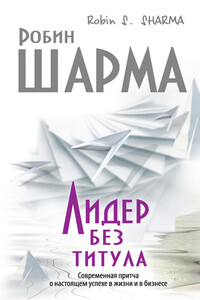Призраки моей жизни. Тексты о депрессии, хонтологии и утраченном будущем | страница 50
Не в том ли наша беда, что каждый культурный объект, начиная с 1963-го, был так досконально, скрупулезно пережеван, что не осталось ничего, что могло бы перенести нас назад? (Проблема цифровой памяти: Бодрийяр как-то заметил, что компьютеры на самом деле ничего не помнят, потому что они не способны что-либо забыть.)
Запись из блога k-punk от 13 апреля 2007
На деле элемент научной фантастики в «Жизни на Марсе» сводился исключительно к онтологическому колебанию: реально это или нет? Таким образом, «Жизнь на Марсе» идеально вписывается в тодоровское определение фантастического произведения как колеблющегося между «жутким» (тем, что можно объяснить естественным ходом вещей) и «непостижимым» (тем, что может быть только сверхъестественным). Задачка, которую задает нам «Жизнь на Марсе»: может, Сэм Тайлер в коме, и весь мир 70‐х, в котором он находится, – это просто плод его бессознательного воображения? Или, может, он каким-то необъяснимым образом действительно перенесся в 1973‐й? Сериал поддерживает интригу до самого конца (финальная серия настолько неоднозначна, что даже загадочна).
Симм с усмешкой говорил, что из‐за хитрой сюжетной интриги зритель многое спустит создателям с рук. Если Тайлер в коме, то все исторические неточности в «Жизни на Марсе» можно объяснить пробелами в воспоминаниях персонажа об этом периоде. Вне всякого сомнения, «Жизнь на Марсе» цепляет зрителя как раз неидеальным изображением, но не самого 1973 года, а телевидения 70‐х. Этот сериал притупляет чувство ностальгии – этакая полицейская драма в духе передачи «Я люблю 1973‐й»>77. Я сказал «полицейская драма», потому что элементы научной фантастики присутствуют в «Жизни на Марсе» практически только номинально; сериал этот – околодетективный, а не научно-фантастический. Вариант с путешествием во времени позволил создателям показать то, что в других обстоятельствах было бы неприемлемо; под основным онтологическим вопросом (реально это или нет?) кроется вопрос о политике и желании: хотим ли мы, чтобы это было реально?
Сэм Тайлер, олицетворяющий современность, выступает нечистой совестью процедурала 70‐х; его недовольство прошлым позволяет нам опять насладиться этим прошлым. Симм в роли современного просвещенного «доброго полицейского» был не столько антиподом дремучего «злого полицейского» Джина Ханта, сколько постмодернистским отрицанием, благодаря которому мы и смогли наслаждаться нецензурщиной и жестокостью Ханта. Хант, сыгранный Филипом Гленистером, стал настоящей звездой сериала и любимцем таблоидов, которые смаковали его потоки брани, тщательно сформулированные сценаристами так, чтобы смешить, а не злить публику. Жесткий подход Ханта к работе полицейского преподнесен достаточно радикально, чтобы зритель поморщился, но не слишком грубо – чтобы не вызывать отвращения. (С этой точки зрения сериал можно назвать культурным эквивалентом грамотного избиения подозреваемого, чтобы побои потом не были заметны при медицинском осмотре.)