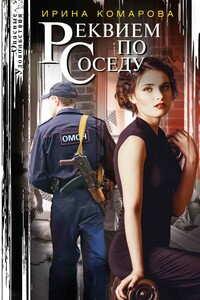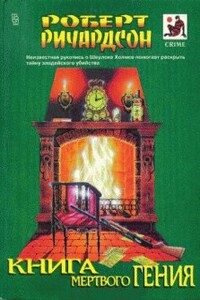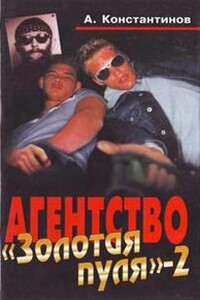Институт благородных убийц | страница 31
Лера мгновенно вышла на передний фланг моей жизни. Три дня она обеспечивала мне уход. Три дня она была для меня единственной связью с окружающим миром, да что там, самим этим миром была. Носила пюре с гуляшом из столовой, какие-то соки. Поскольку я подозревал (теперь уже был почти уверен), что нравлюсь ей, то не мог спросить: «Зачем вам это все нужно, Лера? Почему вы со мной возитесь?» — потому что боялся смутить ее. Единственное, о чем я решился ей сказать, — это то, что у меня нет денег, на что она испуганно замахала руками, о чем вы, мол.
Я не торопился сбегаPть из комнаты. Чувствуя сожаление оттого, что поправляюсь так быстро, лукавил, говоря, что чувствую себя еще очень плохо. Сокрушался, что доставляю ей столько хлопот. Она горячо возражала, просила не вставать, поболеть еще, поскольку я слишком слаб. Я был спокоен и счастлив, как никогда в жизни. Меня украли, упрятали подальше от посторонних глаз и ухаживают за мной. Я снова был ребенком. Я не хотел никаких серьезных разговоров. Болеть бы так вечно.
Бешенство оттого, что мать задним числом выправила мне инвалидность, уже прошло, но я получал мстительное удовольствие оттого, что вот я лежу здесь, а она даже не знает. Телефон я выключил, специально оттягивал момент, когда мне нужно будет выйти в реальный мир. В мире, где я жил сейчас, меня все устраивало. Мне нравилось, расслабленно выложив руки поверх одеяла, вяло думать ни о чем конкретном. Читать книжки, ожидая, пока Лера вернется с дежурства и зайдет ко мне. И сама Лера мне нравилась. Даже больше чем нравилась. Я думал о ней постоянно, пока ее не было, и мысли мои были далеко не безгрешны. Я откровенно желал ее. Желания были сильнее меня, как будто я снова был подросток, а не двадцатитрехлетний мужчина. Болезнь каким-то образом усиливала похоть. Двусмысленность моего положения делала ее почти невыносимой. Лера присаживалась на кровать, клала мне руку на лоб, участливо заглядывала в глаза, протягивала таблетки, а я думал лишь о том, что хочу ее.
Она пришла ко мне сама в последний день перед моим выздоровлением — очевидно было, что я уже почти в порядке и завтра мне предстоит встать. Думая о том, что же делать дальше, я лежал без сна. Общежитие издавало вечерние звуки — ходили по коридору туда-сюда люди, хлопали дверями, кто-то громко смеялся. Я узнал ее шаги, догадался, что она идет ко мне, еще до того, как стала поворачиваться дверная ручка. Обмер от радости и страха. Она вошла — стремительно, как человек, который наконец-то отважился на что-то, и, замерев на пару секунд на пороге, быстро направилась — буквально побежала ко мне и с каким-то ожесточением поцеловала в губы. Я — тоже молча — обнял ее, в темноте получилось неуклюже. Мы ощупывали друг друга, пыхтели, производили больше движений, чем требовалось, и не произнесли ни слова. Я стягивал с нее одежду, она, изгибаясь, чтобы мне, лежащему, было удобно, билась с пуговицами на моей рубахе. Наши пальцы, сталкиваясь, больше мешали, чем помогали друг другу. Под моей рукой уже скользило голое гладкое тело, струились ее волосы — она сняла заколку, которая обычно стягивала их. Она дрожала. Наверное, я тоже дрожал. Я попытался перевернуться, подмять ее под себя — она увернулась. Я сделал еще одну нежную и решительную попытку, но она испуганно зашептала: «Нет-нет. Тебе пока надо лежать». Наконец, после продолжительной борьбы, мы обрели положение: тихо протяжно постанывая, она двигалась на мне в ритме стаккато, порой откидываясь назад — в такие моменты мои ступни оказывались полностью погребенными под ее волосами. Я же, распластанный и счастливый сибарит, лишь мял подрагивающие надо мной наливные груди и поглаживал ее живот, да время от времени приподнимал голову, показывая, что хочу поцелуя.