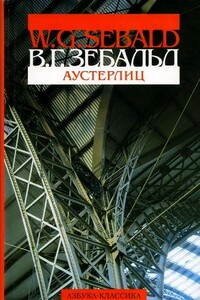Campo santo | страница 65
Обозревая эссеистику, созданную Жаном Амери за четырнадцать лет с 1964 года и вплоть до кончины, отмечаешь как почти исключительно автобиографический подход, так и относительно незначительное для подобной диспозиции нарративное содержание отдельных работ. Тенденция к рефлексии, стержневая в работах Амери, была, несомненно, задана формой, какую он выбрал; однако, с другой стороны, заявляет о себе и неопровержимая потребность показать ход и исход собственной жизни, потребность, которая из робости и страха перед случившимся и еще предстоящим нередко удовлетворялась затем лишь условно или весьма сдержанно. О своем происхождении, детстве и юности Амери сообщает скудные сведения, как и о подробностях работы в Сопротивлении или выживания в Аушвице. Кажется, будто любая крупица воспоминаний для него крайне болезненна, будто он вынужден немедля переводить все в рефлексию, чтобы сделать мало-мальски выносимым. Сложность, заключающаяся в том, что воспоминание – не только о мгновениях кошмара, но и о более-менее безмятежной предыстории – уже почти нестерпимо, во многом определяет душевное состояние жертв гонений. Уильям Нидерланд подчеркивал, что они, не жалея сил и большей частью безуспешно, стремятся выбросить из памяти все, что с ними произошло>3. Не в пример пособникам террора они, по-видимому, более не располагают надежными механизмами вытеснения. Хотя у них и возникают островки амнезии, это никоим образом не равнозначно возможности забыть по-настоящему. Скорее уж дело обстоит так: смутное забвение сливается с постоянно повторяющимися вспышками образов, которые из памяти не вытравишь и которые по-прежнему действуют в их опустошенном прошлом как точки гипермнезии, граничащей с патологией. Мука воспоминания, наполовину призрачно-смутного, наполовину полного поныне острого смертельного страха, тоже заметна в сочинениях Амери. Детство в Ишле и Гмундене представлялось ему куда более нереальным, отдаленным и вспоминалось с куда большим трудом, чем можно объяснить обычным течением времени; и, наверно, куда ближе и неистребимее снова и снова вставали перед ним июльские дни 1943 года, когда гестаповцы пытали его в форте Бреендонк. Накопление и классификация опыта обыкновенно определяются связанными с ними состояниями возбуждения, причем это не вызывает разрыва диахронических рамок. Но для жертв гонений красная нить времени разорвана, задний и передний планы смешиваются друг с другом, логическая защищенность в бытии упраздняется. Опыт террора приводит и к сдвигу во времени, самой абстрактной из родных человеку стихий. Опорные точки суть лишь повторяющиеся с мучительной четкостью и остротой травматические сцены. Не подлежит сомнению, что в годы молчания, когда Амери, хотя и зарабатывал на жизнь пером, ничего не писал о себе, он был подвержен этому пугающему развитию. Во всяком случае, как он откровенно пишет в предисловии к «По ту сторону преступления и наказания», он не может сказать о себе, что в те годы «забыл или „вытеснил в подсознание“ двенадцать лет немецкой и моей собственной судьбы. Два десятилетия я провел в поисках не подлежащего утрате времени, только вот мне было трудно говорить об этом»