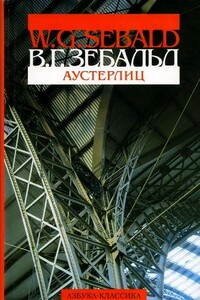Campo santo | страница 49
В этих вымышленных персонажах, среди которых Скептик Гюнтера Грасса безусловно один из самых достойных, послевоенная немецкая литература искала свое нравственное спасение и за этим занятием упустила научиться пониманию тяжелых, затяжных деформаций в эмоциональной жизни тех, кто без вопросов дал включить себя в систему.
Искусственная фигура школьного учителя по прозвищу Скептик, позволяющая Грассу развить улиточную меланхолию, выглядит поэтому как противостоящее программной интенции, то есть скорби, оправдание, которое, несмотря на помощь Лихтенштайна, опять-таки умаляет реальные аспекты истории данцигских евреев. Один из пассажей «Дневника», когда в результате конфронтации исторической действительности и ретроспективной фикции виден отсвет правды, это фрагмент, где речь идет о транспортах еврейских детей, которым вплоть до августа 1939 года еще удавалось покинуть Данциг в направлении Англии. На вопросы собственных детей:
– А там им тоже надо было ходить в школу?
– И они все скоро выучили английский?
– А их родители?
– Что с ними сталось?>25 —
Грасс отвечает ссылкой на родившегося в Данциге английского журналиста, который некоторое время сопровождал его в предвыборной поездке. У этого журналиста, покинувшего Данциг двенадцатилетним мальчиком с одним из детских транспортов, картины родного города – «остроконечные крыши, церкви, улицы, террасы вдоль фасадов, колокольный перезвон, чайки на льдинах и на стоячей воде» – остались в памяти «давно заброшенной игрушкой». «Штудиенасессора Отта (по кличке Скептик) он не помнил»>26. Из набросанной таким образом ситуации вытекает вопрос, не вредит ли доминирование вымысла над реально случившимся описанию правды и попытке создать себе память.
К идеальным образам, какие Грасс рисует в «Из дневника улитки», относится, кстати, и его представление о немецкой социал-демократии, ради которой он берет на себя тяготы предвыборной поездки протяженностью в 31 000 километров.
В этом контексте прежде всего бросается в глаза, что Грасс охотно рассуждает о предыстории и происхождении социал-демократии, но не говорит ни слова о политическом развале, который эта партия учинила в Германии в годы после Первой мировой войны. Так, на страницах «Дневника» появляются Август Бебель в зеленом халате токаря и «Эде» Бернштейн, и мы узнаем, что по-прежнему точными карманными часами первого партийного лидера владеет теперь Вилли Брандт, что создает приятное впечатление чуть ли не семейной солидарности с представителями честного прошлого; а вот об Эберте и Носке – назовем лишь два менее славных имени – мы не слышим ничего.