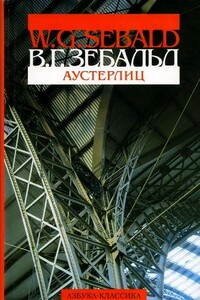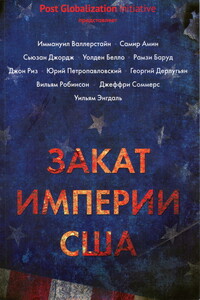Campo santo | страница 47
Вот так литературно-политические путевые заметки о предвыборной кампании в Германии одновременно становятся репортажем об исходе данцигских евреев и описанием места, которое – что весьма характерно – в атласе посвященной Данцигу работы до тех пор оставалось большим белым пятном. Без этих пассажей, повествующих о судьбе гонимого меньшинства, книга «Из дневника улитки» наверняка осталась бы скорее однослойной. Ведь только конкретная память наполняет содержанием и центральное повествование о жизни школьного учителя Скептика, и происходящие на другом уровне раздумья о меланхолии. Не в пример большинству текстов, посвященных геноциду, локально-историческая конкретизация ведет речь не о «евреях» в ужасающе абстрактном смысле; здесь автор, а вместе с ним и читатель осознают, что данцигские, аугсбургские и бамбергские евреи некогда действительно существовали как сограждане и соседи, а не только как этакий расплывчатый коллектив.
Историей данцигских евреев, которую нам излагает Грасс, мы в первую очередь обязаны не самому автору, в общем весьма сведущему в данцигских делах, но труду еврейского историка Эрвина Лихтенштайна. Поэтому даже слегка любопытствуешь, не досталась ли эта история Грассу – если мы правильно расшифровываем его собственный текст – в известном смысле даром. «Когда мы 5–18 ноября 1971 года были в Израиле, – в скобках замечает Грасс в «Дневнике», – <…> Эрвин Лихтенштайн сказал, что вскоре в издательстве Мора в Тюбингене выйдет его документальная книга „Исход евреев из Вольного города Данцига“»>17. И в самом деле, впечатляющие реальные подробности, придающие аутентичный характер путешествию данцигских евреев с родины в эмиграцию и из эмиграции на родину, восходят почти исключительно к разысканиям Лихтенштайна.
Вопрос о том, на каком этапе замысла Грасс включил в свой текст историю исхода данцигской еврейской общины, остается открытым. Однако не подлежит сомнению, что эта глава «темной и запутанной истории», о которой в повести «Кошки-мышки» рассказчик говорит, что она «должна быть написана, но не мною и, конечно, не в связи с Мальке»>18, в конечном итоге действительно никак ни могла быть написана самим Грассом. Ведь о реальной судьбе гонимых евреев сами немецкие литераторы по-прежнему знают очень мало. Но поскольку порок нюха, если обратиться к метафоре Канетти, ведет их, как всех писателей, через бездны времени>19, они, по словам самого Грасса, вернулись домой, учуяв, что «везде – не только в нарядных особнячках, то открыто глядящих на улицу, то кокетливо прячущихся в зарослях лаванды, тут подчеркнуто холодноватых, там уютно утопающих в зелени, но и рядом с ними и вообще повсюду стоит вонь, потому что и здесь, и там, и по соседству в подвалах лежат трупы»