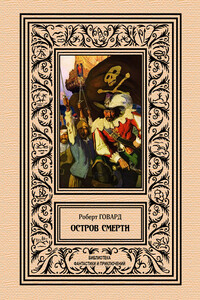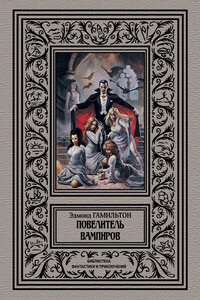Удивительные истории | страница 38
Дна пропасти не было видно — чудовищная дыра была наполнена тенями и тьмой. Накатила тошнота. Слабость обрушилась лавиной. Пиззози покачнулся в седле.
Но конь спас седока, успев отступить от смертоносного обрыва. Могучий инстинкт животного, заставляющий в момент опасности бежать туда, где безопасно, оказался сильнее воли и разума человека. Столкнувшись с угрозой, коровы и лошади всегда бегут домой. Вот так и вышло, что конь и его ошеломленный всадник оказались на дороге в Джексон.
Пиззози ничего не знал о событиях в Окленде. Для него случившееся было кошмарным чудом. В тот миг он не мог рассуждать логично. Он не мог обуздать коня. То, что Пиззози вообще остался в седле, была скорее дань условным рефлексом и привычка, чем результат осмысленных действий. Сознание его было парализовано, а сам он переполнен ужасом, но привычное к верховой езде, натренированное тело и верный конь сделали свою работу. Все это случилось в сорока четырех милях от ближайшего города. Над землей царила ночь, и звезды сияли в небе, когда Пиззози въехал в Джексон…
А что же Чарли Хайк?
Дальнейший ход событий был предопределен его гением, и нам придется ненадолго отвлечься от хроники Катастрофы, чтобы понять, как формировался его гений. Если бы не странный образ его воспитания, если бы не доктор Роболд и его влияние, некому было бы рассказывать эту историю. Из пламени, зажженного лучами солнца, из маленького происшествия на улице, случившегося с десятилетним газетчиком в жаркий летний полдень, разгорелось пламя неудержимой мысли. Если нет такого понятия, как Судьба есть по крайней мере нечто, очень на нее похожее.
В эту ночь мы могли бы найти Чарли в обсерватории в Аризоне. Он уже давно стал взрослым, хотя еще и не старым, но нищего мальчишку с увеличительным стеклом и газетами он уже ничуть не напоминал. Высокий, стройный, хотя и слегка сутулящийся, с теми же идеалистическими, мечтательными глазами поэта. Конечно, никто на первый взгляд не признал бы в нем типичного ученого. Он и не был типичным.
Действительно, Чарли подходил к науке совершенно не так, как большинство ее тружеников. Наука была для него не сухим набором фактов, а скорее симфонией или поэмой. Он был первым и, возможно, последним представителем школы доктора Роболда, школы, парадоксально сочетавшей холодную логику и высокую поэзию, приверженность факту и полет пророческой фантазии, высокий идеализм целей и суровый материализм мировоззрения. Главным принципом старого доктора было: «Истинная наука — это всегда отчасти поэзия».