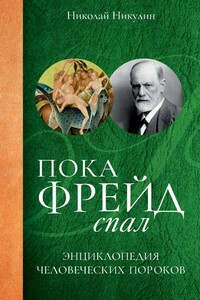От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров | страница 23
С ранним кинематографом все было как-то проще: авторы сразу признавались – да, мы принадлежим к такой-то школе. Поэтому зрителю можно было порыться в пыльных библиотеках или поспрашивать на книжных развалах тот или иной манифест, вдумчиво прочитать и послушно изобразить понимание. Советский авангард, французский поэтический реализм, сюрреализм, экспрессионизм – словом, развязанность искусства XX века коснулась и кино. А почему нет? Это значило одно: фильмы не такая уж легкомысленная штука. Они могут потягаться в своей значимости и с книгами, и с музыкальными композициями, и с фотографией.
НО ВЕДЬ НАДО НЕУГОМОННОЙ МЫСЛИ ЭКСПЕРИМЕН-ТАТОРА ВЗЯТЬ И СЛОМАТЬ ПРИВЫЧНЫЙ ХОД ВЕЩЕЙ. ЗАДАТЬСЯ ВОПРОСОМ: А ВДРУГ В КИНЕМАТОГРА-ФИЧЕСКОМ МИРЕ РАБОТАЮТ СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ, НЕЖЕЛИ В РЕАЛЬНОМ?
И в самом деле, на экране жизнь предстает несколько иной, подчиняясь режиссерскому почерку. Не только комиксы создают свои киновселенные, но и любой автор, поэтому мы его с легкостью узнаем. Вокруг нас головокружительный круговорот жизни, и, чтобы обрести покой, нужно перенести центр тяжести. Назовем это законом Эйнштейна, тем более что его сформулировал именно он, а не кто-нибудь из доморощенных искусствоведов.
Мы видим под иной оптикой столицу Франции в фильме Рене Клера «Париж уснул» (1923), какую-то непривычную, ненастоящую. Оно и понятно: исходная посылка режиссера парадоксальна – уснувший город, другой город, другая жизнь. Про ленту Рене Клера можно было сказать: «Ну ясно же, это авангард». А когда в 1924 году он снял феерическую короткометражку «Антракт», которая завоевала большую популярность, все другие авангардные картины стали нарекать: «Как у Рене Клера». Он писал: «Марсель Пруст задавался вопросом, не могла ли музыка стать единственной формой общения душ, если бы не был изобретен язык, образованы слова, не появился бы анализ мыслей. Нет, музыка не единственная форма. Марсель Пруст не написал бы так, если бы ему были известны возможности зрительного искусства – кино».
Конечно, красивые слова в 1920-е и 1930-е годы умели произносить все. Не пришло еще то время, когда грозные теории обрушились на Европу в виде суровых диктатур. Пока времена действительно были относительно вегетарианские: Сталин изучал Карла Маркса, а Гитлер – живопись. Советские режиссеры Эйзенштейн, Пудовкин и Кулешов позволяли себе художественные вольности, оправдывая их лихой теоретической базой. А французам и оправдания были не нужны: искусство, мол, не требует объяснений. Сами все поймете. Предложил же Марсель Дюшан выставить писсуар в салоне независимых художников, да еще и причудливо обозвал сей предмет искусства – «фонтан». А чем кинорежиссеры хуже?