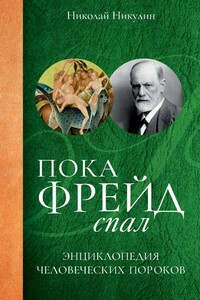От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров | страница 21
Впрочем, были времена, когда и эта картина не рекомендовалась к показу, – как-никак в определенный момент с Германией Советский Союз стал дружен, отчего героический отпор немецкому захватчику выглядел как нечто неуместное. Но и тут Эйзенштейн нашел свою нишу, правда отнюдь не в кино, а в опере. В 1940 году, спустя два года после «Александра Невского», в Большом театре он поставил «Валькирию» Вагнера. Вот уж где сказалось товарищеское отношение к Германии (а по факту – к немецкой культуре). Вагнер, этот столп помпезности и высокого стиля, не мог не заинтересовать режиссера, тем более что в его опере не только хороша собственно мифологическая история летающих небожителей, но и присутствует синтез музыки и действия.
ЗА АВТОРОМ ОСТАЕТСЯ ЕГО АВТОРИТЕТ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ, А ФИЛЬМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН НЕ ЗАКОНЧЕН, ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ И ПО-СВОЕМУ ОСМЫСЛЯТЬСЯ.
Но по-настоящему олимпийскую высоту удалось взять в фильме «Иван Грозный» (1944), в котором борьба за власть не мыслилась без личной трагедии «Гамлета на троне». Да, ясно, что в строительстве сильного государства – а только такие личности более всего любимы народом – мешали разного рода интриганы, проклятая «пятая колонна». Это, разумеется, никак не шло вразрез с логикой советских руководителей. А вот то, что царь-то был какой-то больно рефлексирующий, нерешительный, колеблющийся, не могло не поставить на фильме крест. Наверху не понравился подобный взгляд. И кому какое дело, что Эйзенштейн скрупулезно анализировал исторические документы, силясь найти психологические противоречия царя, его мотивы и тайные мысли, все равно на экране, по задумке властей предержащих, должен был предстать образец. Политики – не будем их винить в узости взглядов, ведь они тоже рабы своих заблуждений – склонны видеть в искусстве подспудный урок, самоуверенное назидание, где человек – красивая маска, а не голый сгусток противоречий. Не удивительно, что «Иван Грозный», рассчитанный на несколько частей, так и не был завершен.
С другой стороны, в истории искусства много произведений с открытым финалом. И его окончание без всякой помощи додумает сам зритель. Потому что за автором остается его авторитет и теоретические наброски, а фильм, даже если он не закончен, продолжает жить и по-своему осмысляться. Ведь вспоминать модную постмодернистскую концепцию о «смерти автора» уместно, пожалуй, только по отношению к незаконченным произведениям искусства.