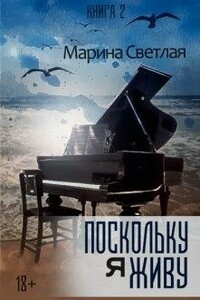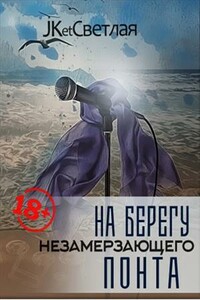Уход на второй круг | страница 36
У него это получалось только в Стретовке, в доме родителей, на озере, в лесу, где рос когда-то, и не понял, когда же вырос. В холодных нетопленых стенах, в последней крепости, в конуре, в которую он приползал любым, будто в него был встроен компас — и он везде нашел бы это место, куда бы его ни забросило. У всех людей есть причал. У всех на земле должно быть место, где можно остаться навсегда. Одинокое, может быть, неуютное, заброшенное. Но пока оно есть на свете, есть и осознание, что все не зря.
Все не зря. И он не зря.
Глеб вглядывался в трассу, серую, со свежей разметкой, и не считал пробегавшие мимо него электрические столбы. Все сливалось в оттенках огня. Перед глазами — повсюду — пылала осень. В траве, в деревьях. И снова все казалось оранжевым и черным — кроме ясного неба где-то над его домом, впереди. Наверное, здесь солнце совсем не гаснет. Им полны кроны. Им полно пространство между землей и небесным сводом. Сжигает живое, не спрятаться. Вторая в жизни безумная осень. Двенадцатая осень без родителей.
Интересно, когда-нибудь думал отец, что сын, непутевый мальчишка-шалопай, который не мыслил себя без столицы и не желал лишний раз ездить с ними на забытую богом дачу в Стретовке, будет здесь зализывать раны? Возможно, Лев Андреевич знал все на свете? Когда-то Глебу так и представлялось, бесконечно давно, когда небо висело высоко и не падало на голову. Родителей не стало, едва ему минуло двадцать. В тот период он остановился на отметке, что ни черта они не понимают ни про него, ни про его жизнь. А теперь вышел на новый уровень — спасался здесь. В этих стенах, возведенных камешек за камешком отцом.
«Докторская дача» — так называли дом на берегу озера. Из белого кирпича, увитый виноградом, который совсем не плодоносил — с первого своего лета. Но заменять его никто не стал. Отец все надеялся… Нет, ни черта он не знал о том, что касалось садоводства хотя бы.
От сада в озеро уходил пирс. Небольшой, деревянный, среди прорубленных камышей, теперь уже снова все забивших. Они часто сидели там с мамой. Отец удил рыбу. Она тащила ему куртку. Большую, шерстяную, клетчатую, привезенную из Чехословакии. Глеб больше всего на земле любил эту куртку за то, что мать приносила ее отцу вместе с табуреткой — для себя. Так они и сидели, рядом, тихо-тихо. До кома в горле.
Но камыши давно все забили, кроме воспоминаний. Эти не были болезненными. Напротив, лечили.
Он черт знает сколько собирался снова очистить тот пирс. Если бы так же просто было отчистить собственную жизнь. А еще заменить доски, две проваливались. Гнили. Все начинает гнить со временем. И если уж доски, то что говорить о людях?