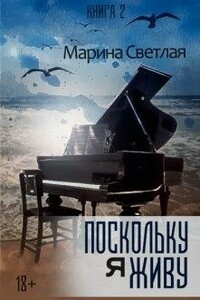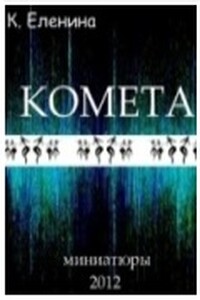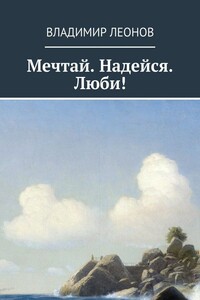Про Лису (Сборник) | страница 9
Они фотографировались. Потом ужинали. Слушали какие-то песенки — он завел патефон. Пили много вина — до самого головокружения. Потом пожелали друг другу доброй ночи и ушли спать — было уже очень поздно. Когда в доме стало совсем тихо и темно, она услышала стук в дверь своей комнаты.
Лиса знала, что так будет. Знала, что откроет дверь. Знала, что потом, в часы, превращающиеся для нее в вечность, больше всего на свете будет бояться, что война никогда не закончится. И до конца своих дней ей придется ездить по шталагам, петь и танцевать, смеяться и ужинать с офицерами, видеть глаза людей за проволокой. И знала, что после всего она достанет свою фляжку с коньяком, без которой никогда не ездила, чтобы провалиться в забытье хотя бы на несколько мгновений.
Утром ее ждали фотографии, любезно врученные фотографом. Прощальная улыбка Генерала. И автомобиль, который увез ее из лагеря.
Через два месяца она, в ответ на свою просьбу, получит разрешение вновь посетить этот же шталаг. И привезет с собой несколько десятков фальшивых удостоверений личности для тех, с кем она фотографировалась в прошлый раз, чтобы после концерта раздать их пленным. Одно удостоверение окажется лишним. Пианиста в лагере уже не будет. Он сбежит через несколько дней после концерта Лисы.
3. Поезд Париж-Брест
— Здравствуй, Лиса!
Нет, ей не показалось.
Повернув голову, она увидела Пианиста. Не так давно они не виделись, чтобы не узнать его. И все-таки слишком давно. И, кажется, он изменился. Хотя по-прежнему был красив, как когда-то. Но теперь это была строгая красота зрелого мужчины, не замечать которую либо невозможно, либо глупо. Черты его лица утратили тонкость молодости, приобретя твердость и четкость линий. Лоб прорезали неглубокие морщины. Виски подернулись сединой. И лишь глаза оставались прежними, выразительными и живыми, с пронзительным взглядом, проникающим так глубоко, куда и сама Лиса не решилась бы заглянуть.
— Здравствуй, — негромко ответила она.
Он спокойно повесил пальто на вешалку. Спокойно поставил чемодан возле диванчика. Спокойно сел, закинув ногу за ногу — совсем как томный енот под своим деревом шесть лет назад на Монмартре. И все с тем же непонятным, несвойственным ему спокойствием негромко спросил:
— В Брест? К отцу? Жив он еще?
Она кивнула.
— А ты? — сама не знала, о чем именно спрашивает. И совсем не хотела слышать ответов.
— И я жив, как видишь, — то ли пошутил, то ли всерьез ответил он. — Контракт с Оперным театром Ренна. Два года буду сидеть в оркестровой яме. Хорошо хоть не долговой.