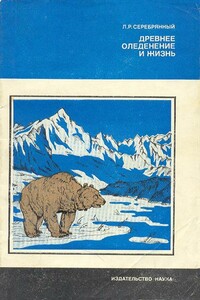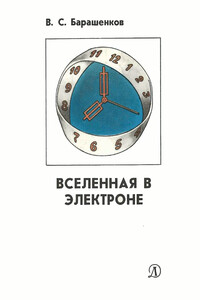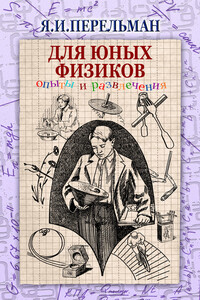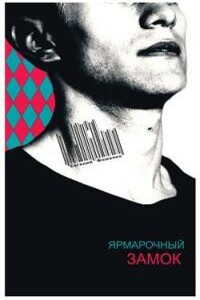Теорема века. Мир с точки зрения математики | страница 3
В механике мы придем к аналогичным заключениям и увидим, что принципы этой науки, хотя и более непосредственно опираются на опыт, все-таки еще разделяют условный характер геометрических постулатов. До сих пор преобладает номинализм; но вот мы приходим к физическим наукам в собственном смысле. Здесь картина меняется; мы встречаем гипотезы иного рода и видим всю их плодотворность. Без сомнения, они с первого взгляда кажутся нам хрупкими, и история науки показывает нам, что они недолговечны; но они не умирают целиком, и от каждой из них нечто остается. Это нечто и надо стараться распознать, потому что здесь, и только здесь, лежит истинная реальность.
Метод физических наук основывается на индукции, заставляющей нас ожидать повторения какого-нибудь явления, когда воспроизводятся обстоятельства, при которых оно произошло в первый раз. Если бы могли повториться вместе все эти обстоятельства, то этот принцип мог бы быть применим без всякого опасения; но этого никогда не случится: всегда некоторые из обстоятельств будут отсутствовать. Абсолютно ли мы уверены, что они не имеют значения? Конечно, нет. Это может быть вероятно, но не может быть строго достоверно. Отсюда – значительная роль, которую играет в физических науках понятие вероятности. Таким образом, исчисление вероятностей не есть только забава или руководство для игроков в баккара, и мы должны стараться точнее обосновать его принципы. В этом отношении я мог дать лишь неполные результаты, поскольку тот неясный инстинкт, который руководит нами при решении вопроса о вероятности, мало поддается анализу.
Изучив условия, в которых работает физик, я счел нужным показать его за работой. Для этого я взял несколько примеров из истории оптики и электричества. Мы увидим, откуда вышли идеи Френеля, Максвелла и какие гипотезы бессознательно создавали Ампер и другие основатели электродинамики.
Часть I. Число и величина
Глава I. О природе математического умозаключения
Самая возможность математического познания кажется неразрешимым противоречием. Если эта наука является дедуктивной только по внешности, то откуда у нее берется та совершенная строгость, которую никто не решается подвергать сомнению? Если, напротив, все предложения, которые она выдвигает, могут быть выведены один из других по правилам формальной логики, то каким образом математика не сводится к бесконечной тавтологии? Силлогизм не может нас научить ничему существенно новому, и если все должно вытекать из закона тождества, то все также должно к нему и приводиться. Но неужели возможно допустить, что изложение всех теорем, которые заполняют столько томов, есть не что иное, как замаскированный прием говорить, что А есть А!