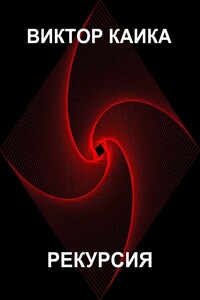Память о мире | страница 41
А теперь перейду ко второй части своей речи в самозащиту. Имеются ли факты, подтверждающие, что я побудил Марию к самоубийству? Нет. Какиелибо документы или свидетельства?
Нет. Письма или признания покойной?
Нет.
Я бог, господа судьи и присяжные заседатели. На мне особая историческая миссия, мои действия не подчиняются каким-то там статьям да параграфам. Явление бога — происшествие в человеческой истории неординарное, его не втиснешь в рамки юриспруденции.
Мыслимо ли судить Иегову как сыноубийцу за то, что он не спас Иисуса от Креста и других страданий?
Нет-нет, мне совсем не льстит сравнение с Христом, он чересчур примитивен, чересчур слепо предан идее. А что такое идея, господа?
Всего лишь средство достижения определенной цели. Не более!
Меняются цели, а с ними меняются и идеи. Вот и всё.
Но вернемся же к богам. Потому-то они и боги, что вам, господа, их не понять, они не умещаются на тесных полочках вашего мозга. Да и что сталось бы, понимай вы богов?
Воцарились бы хаос и неприличие.
Мария попыталась меня понять. И потому покончила с собой.
Любое прикосновение к абсолюту поднимает в ваших черепах нестерпимый гул. Ничтожная часть моих вселенских просторов открылась Марии, но и этого оказалось достаточно, чтобы отвратить ее от жизни.
Проникший в божественную суть человеком оставаться не может — не те масштабы, а это заставляет чувствовать себя сирым и убогим. И никчемным!
Ощущение же никчемности — вещь роковая. Оно толкает к бездне, и из этой бездны спасения нету. Оно заставляет задаваться миллионами вопросов, на которые нет ответов, и терзаться миллионами сомнений, у которых нет конца. Что же делать сирому, убогому, смертному человеку? Что ему остается, кроме самоубийства?
Вот она, правда, — вся, как есть. Никакого злого умысла с моей стороны, никакого прямого или скрытого побуждения. Моя единственная вина в том, что я бог.
Не верите? Хорошо же. Тогда докажите обратное.
Отношения у нас с Марией были весьма сложные, что типично (прямо классика!) для отношений бога с простыми смертными. Вначале она мне пришлась по душе; причина, вероятно, в той трагической струнке, которую я в ней почувствовал. Такие натуры нравятся гениальным писателям, им чужие муки просто необходимы, они их изучают и ведут записи. Но Мария меня ненавидела. Или боялась — это, в конце концов, одно и то же.
Так было до дня, когда она стала… Разговор наш шел трудно, ей не хотелось верить, но потом, когда я поведал ей об охотнике с Чиратантвы, она согласилась.