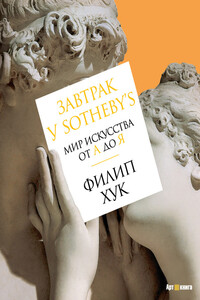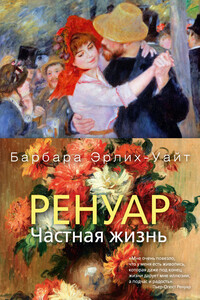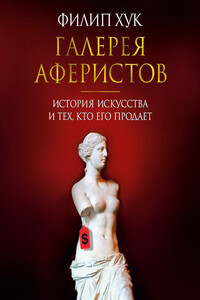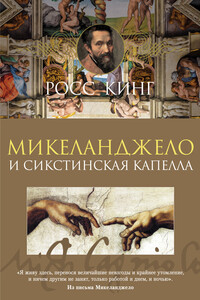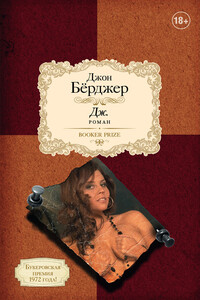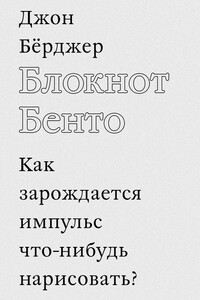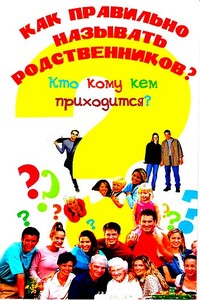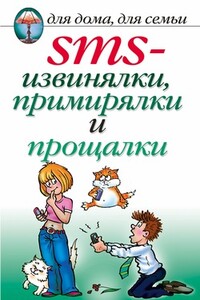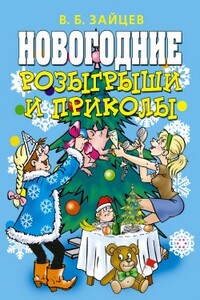Пейзажи | страница 7
В недавно вышедшем фильме «Времена года: четыре портрета Джона Бёрджера» (2016) актриса Тильда Суинтон упоминает, что они с Бёрджером родились в один день – 5 ноября (помним, помним). Она читает «Автопортрет 1914–1918» (1970), стихотворение Бёрджера, в котором говорится, насколько сильно повлияли на него Первая мировая война, через отца, и весь мир, в котором он родился в 1926 году. «Пейзажи», таким образом, публикуются в честь его девяностолетия. Однако даже вместе с «Портретами» эта книга представляется лишь частью гораздо более масштабного и не теряющего своей актуальности достижения – достижения, которое одновременно питает «Пейзажи» и питается ими.
Один аспект этого достижения, представляющийся особенно существенным в 2016 году, – это большая дуга в творчестве Бёрджера, которая идет от его решения разделить полученную им в 1972 году Букеровскую премию между «Черными пантерами» и собственным проектом о трудовых мигрантах, «Седьмой человек» (1975), далее через трилогию «В труд их», исследующую вопрос, откуда берутся эти мигранты, к книге «И наши лица, душа моя, моментальны, как фотографии» (1984), где он пишет:
…переселение, будь то вынужденное или добровольное, через государственные границы или из деревни в большой город, есть типичная картина нашего времени. На то, что индустриализация и капитализм потребуют такого перемещения людей в беспрецедентном масштабе и с небывалым уровнем насилия, указывало еще начало работорговли в шестнадцатом столетии. Западный фронт и Первая мировая война с ее огромными армиями мобилизованных стали последующим подтверждением той же практики разрыва, нового соединения и сосредоточения на «ничейной земле». Затем и концентрационные лагеря по всему миру продолжили логику того же установленного порядка.
Если, как пишет Бёрджер, «эмигрировать – это всегда разрушить центр мира и таким образом оказаться в потерянном, дезориентированном фрагментарном мире», то все мы остро нуждаемся в новых картах.
Том Овертон, 2016
Часть I
Новая картография
1. Краков
Это был не отель. Скорее своеобразный пансион, вмещавший не более четырех-пяти постояльцев. Утром на полке в коридоре ожидал поднос с завтраком: хлеб, масло, мед и нарезанная колбаса – гастрономическая гордость этого города. Рядом лежали пакетики «Нескафе» и стоял электрический чайник. Любые контакты со строгими и невозмутимыми молодыми женщинами, управлявшими заведением, были сведены к минимуму.