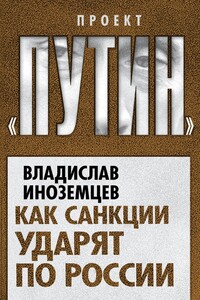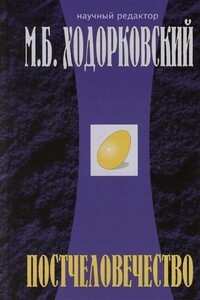Бесконечная империя. Россия в поисках себя | страница 34
Византийская рецепция, если описывать ее в самых общих чертах, была в значительной части идеологической, а также политической в той мере, в какой религия определяла характер доминирующих государственных институтов. Обусловленные ею на Руси изменения определялись в основном тремя моментами.
Во-первых, вместе с христианством Русь «импортировала» из Византии особый способ взаимодействия церкви и светской власти. Если в западной части Римской империи по мере ее ослабления и после ее распада епископы приобретали значительный вес, нередко противопоставляя себя светским правителям, превратив церковь к IX веку в параллельный источник власти[123], то в восточной части, где империя сохранилась и даже окрепла в VI–VII веках, сформировались все предпосылки для подчинения духовной власти светской[124]. Последнее не случилось мгновенно, но после подавления иконоборчества сложилась та обоснованная еще Юстинианом симфония двух властей[125], которая не могла не нравиться любым правителям, мечтавшим о прочной легитимации собственной власти. Следует заметить, что на киевской почве эта идея получила развитие, и всего через полвека после принесения христианства на Русь явилось знаменитое «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона[126], в котором излагалось учение о «прирожденном государе», на долгие столетия оказавшееся фундаментом московского и российского абсолютизма. Так как новая религия пришла на Русь не в результате завоевания или миссионерства, а была установлена правителем, то вся церковная экономика также изначально стала заботой властей — и финансовая зависимость церкви от князя не располагала к самостоятельности (тренд усилился по мере сдвига центра русского государства от Киева к Владимиру и Москве). Принятие христианства дало безусловный толчок упрочению абсолютистской власти князей и в этом отношении укреплению государства.