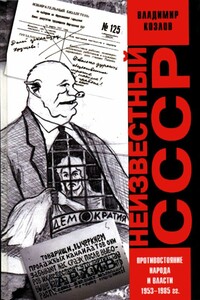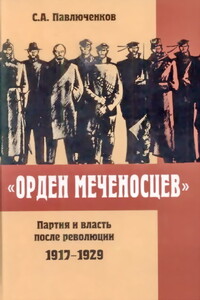Точка слома | страница 120
Комната была стандартной: грязное окно напротив двери, упиравшееся в укрепленную бревнами землю, подоконник с пепельницей, около него у бело-зеленой стены стоит кровать, с которой и скинули жильца, у другой стены стоит стол, украшенный двумя пустыми бутылками из под водки, несколькими папиросными пачками, тарелкой с объедками и другим хламом. Никакой печки в доме не было: кажется, Филин или в столовой питался, или готовил на общей кухне (скорее всего, второе). Около двери стоял небольшой коричневый шифоньер, внутри которого творился настоящий бардак: одежда была скомканной и лежала друг на друге огромными помятыми сгустками. На стене около кровати висело три фото: маленький Филин, вероятно, с мамой, он же в военной форме, кажется, после войны и еще фото какой-то красивейшей девушки с комсомольским значком на белой рубашке. В шифоньере вверху была полка, на которой стояло не так уж и много книг. Среди них Летов сразу приметил сборник стихов Маяковского, пролистав который просто онемел, увидев, что в «Левом марше» то самое четверостишье вырвано. Из под кровати милиционер вытащил запыленный топор и трофейный немецкий чемодан. В чемодане была какая-то старая детская одежда, вероятно, самого Филина, а вот топор вызывал больший интерес, нежели чемодан. Среди одежды была найдена старая белая рубашка, заляпанная засохшей кровью. Забрав основные вещдоки и опечатав комнату, милиционеры, прорвавшись через толпу злобных жильцов этой коммуналки, помчались обратно в отделение, где в камере уже сидел пойманный Филин.
Глава 11.
«Что не сбудется, то нам приснится»…
--TheRetuses
Вот уже больше недели Павлюшин не выходил на свои кровавые акции. Дело в том, что моменты просветления рассудка, когда он мог стоять на ногах, что-либо делать и мыслить, составляли от силы часа полтора и все это время он либо пил, либо выползал за выпивкой. С работы он уволился еще после последнего убийства – совмещать выполнения приказов «голосов», жуткие боли и галлюцинации с работой более было невозможно.
Он лежал на своем запыленном и заваленном бутылками полу. Вдалеке был слышен вой ветра – это бегущий воздух летал по пустым коридорам барака, поднимая там легкий снег. Вот очередная пустая бутылка водки упала на пол и разбилась. Павлюшин ничего не слышал: в его ушах был писк, поверх которого накладывались голоса. Голоса, голоса – они что-то говорили, но Павлюшин сам не мог понять, что именно, он не мог разобрать даже отдельных слов. Казалось, что это конец, что его воспаленный разум взорвался, и он больше не жил, а лишь корчился в длинной предсмертной агонии. Но нет, это был лишь период обострения – вскоре он должен был закончиться, а, следственно, периоды своеобразного просветления удлиниться.